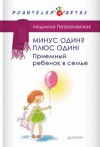«Минус один!» – это значит на одного сироту меньше. «Плюс один!» – это значит ваша семья стала больше на одного человека. Это слова, за которыми стоит так много: и радость за этого ребенка, и чувство вины перед всеми теми детьми, кто еще не обрел семью, и надежда когда-нибудь все же «вычерпать море». О том, чтобы эта простая арифметика стала счастливой жизнью, и написана книга замечательного психолога Людмилы Петрановской. В своей книге автор рассказывает, как подготовиться к этому непростому...
Судить душевные порывы и стремления может лишь Господь Бог. Мы просто люди и оценивать можем лишь реальные дела и их последствия, и то в меру своих способностей.
Своя душа для человека не меньшие потёмки, чем чужая, наши сознание и подсознание устроены сложно, они умеют ловко маскировать от нас наши же глубинные побуждения, страхи, предрассудки.
Если у вас есть место в доме и в сердце для приемного ребёнка, пустым оно не останется.
Не говоря уже о том, что приёмный ребёнок может принести с собой модели поведения, которые могут не только шокировать вас, но и напугать вашего ребёнка: агрессию, нецензурную брань, истерики, сексуализированные игры. Всё это не так страшно и со временем проходит, но при одном условии: родители хотят и готовы с этим справляться, берут на себя всю полноту ответственности за принятое решение.
В отношениях "родитель - ребёнок" большая часть ответственности всегда лежит на взрослом. Если ребёнок приёмный, то есть раненный судьбой, ответственность на взрослого падает ещё большая. Он должен быть готов всегда искать: что я делаю не так, что я могу изменить, что ещё нужно сделать, а не объяснять все неудачи тем, что ребёнок "не такой". Это важно осознавать именно потому, что валить вину на приёмного ребёнка легко и удобно - просто само получается. У него и гены, как известно, не те, и прошлое плохое, и вообще... Взрослому тут требуются немалая стойкость и честность перед самим собой, чтобы избежать этого соблазна и не перебросить всю ответственность с себя на него.
Пренебрежение, как и частые разлуки с матерью в раннем детстве, формирует у ребенка непрочную привязанность. Теория привязанности была впервые сформулирована английским психологом Джоном Боулби, который изучал поведение и состояние детей, оказавшихся в приюте. Чувство привязанности формируется в первые два года жизни ребенка. Какой она будет – прочной или нет, зависит от того, насколько надежна его мать, насколько он может быть уверен в ее присутствии рядом, в ее помощи в трудную минуту. Ведь для младенца чувство голода – это очень, очень трудная минута, у него нет жизненного опыта, он чувствует голод как прямую угрозу жизни, и должна много-много раз повториться цепочка действий: голод – крик – мама – молоко – жизнь налаживается! – пока он не усвоит твердо, что умереть с голоду ему точно не дадут. И тогда годам к двум ребенок может уже подождать, пока мама варит кашу, даже если чувствует голод. Потому что уверен – с мамой не пропадешь!Если же эта вера не может сформироваться, потому что мама то есть, то где-то ходит, то кормит, то нет, то и привязанность формируется соответствующая. Многочисленные исследования показывают, что качество детской привязанности влияет на будущую жизнь человека, определяет его устойчивость к стрессам, отношения с супругом и детьми, желание работать и добиваться успеха.
Но дети растут для того, чтобы однажды вырасти и стать независимыми от родителей.
Хуже всего - неопределённость и недосказанность, когда проблемы не обсуждаются, а прячутся, как мусор под ковёр при некачественной уборке.
Для маленького ребенка важнейшая составляющая заботы – создание предсказуемого, понятного, знакомого мира вокруг. Не случайно дети так любят ритуалы. Им важно знать, что, когда и в какой последовательности будет происходить. Сначала я смотрю «Спокойной ночи, малыши», потом иду купаться, потом надеваю пижаму, мама приносит мне молоко, я обнимаю мишку, мама меня укрывает и целует. Все хорошо, все как всегда, можно спать. Но если вдруг мишка куда-то задевался или мама говорит по телефону и все никак не идет целовать – караул. Ребенок не может заснуть, крутится, плачет, мается. Это не капризы – ему действительно плохо. Умные родители знают, что стыдить и увещевать бесполезно – проще включить свет, объявить семейный аврал и найти-таки мишку.
Трагедия детей из неблагополучных семей не в том, что нет простыней или горячего супа. Их родители не справляются с жизнью. Они чувствуют, что все не так, но ничего не могут изменить. Они забываются на время, когда выпьют, их настроение меняется от безнадежности к раздражению, то они «начинают новую жизнь», то опять опускают руки. Ударяются в безудержное веселье, которое может смениться черной злобой на всех вокруг, на себя, на ребенка. Эта чересполосица чувств, настроений, состояний сбивает ребенка с толку. Все его силы уходят на то, чтобы предугадать поступки родителя: что он сделает в следующую минуту – ударит? погладит? уйдет? заплачет? И что я сам должен делать: спрятаться? помочь? заплакать? пожалеть? Ему уже не до развития, не до детской любознательности, не до игр и сказок. Тут бы хоть что-то успеть сообразить.