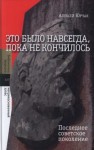Рецензии на книгу «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение» Алексей Юрчак
На работе краем уха услышала разговор, в котором приехавший из Америки лектор упомянул термин "гипернормализация". В силу специфики работы, я подумала, что это термин из баз данных, но я, к своему великому стыду, такого не знаю. И каково же было моё удивление, когда оказалось, что к базам данных термин отношения не имеет, а вот он изобретён Алексеем Юрчаком для описания того, что происходило со строем в СССР. (Ну, честно говоря, лектор, скорее всего, говорил таки о базах данных, просто изобрёл термин "на лету".)
Книга вызвала полнейший восторг. Хотя первые две главы шли с трудом. Они какие-то слишком нагруженные теорией: упоминаются множество философов и социологов, термины из соответствующих наук, и сам язык этих глав слишком профессионально ориентированный. Я уже даже настроилась, что книгу научпопом назвать не удастся, продраться через неё мне будет сложно. Но к счастью, после этого автор переходит на более простой человеческий язык, рассказывать начинает о более понятных вещах, и всё сразу становится ясненько. Более того, автор, по-моему в очень американской традиции, кругами повторяет одно и то же разными словами, так что в конце-концов все те сложности, через которые приходилось продираться в начале, оказываются тщательно разжёванными на примерах позже.
Мне очень понравился анализ всей системы и поведения отдельных людей, проведённый автором. Казалось бы, после Сталина не было никакой сильной личности, на которой бы держалась система, однако же целая страна продолжала тянуть лямку, все продолжали ревностно рваться в коммунизм, не веря искренне ни в один из лозунгов. Что же двигало всем этим? Автор разъясняет, что система двигала сама себя. Она вошла в идеальный баланс, когда значения лозунгов уже ничего не значили, а значило только постоянное воспроизводство "правильной" формы.
Но, конечно, те главы, которые больше посвящены синтезу - т.е. рассмотрению примеров для того, чтобы объяснить, что происходит. Прежде всего, автор нашёл совершенно потрясающих людей, в жизнь которых нам дозволено заглянуть одним глазком. К примеру, секретарь партийного комитета в НИИ Андрей, который в свободное время увлекается рок-музыкой. А какой потрясающий человек якутский подросток Алексей! Он рассуждает о философии и математике, при этом одновременно искренне проникается идеями коммунизма и тонко чувствует музыку. Просто по-человечески интересные персонажи.
Из книги я узнала о существовании некрореалистов и прочих сообществ позднего СССР. Автор вскользь напоминает, как популярны были стишки с детскими персонажами и чудовищным содержанием - и правда они были так популярны, а теперь совсем забылись. Ну чисто даже для общего развития достаточно много нового.
Но самый дикий восторг вызвало описание "пустых форм" воображаемого Запада. Я пошла в первый класс через пару недель после Августовского путча, так что по мнению автора книги я к последнему советскому поколению не принадлежу. Однако, в силу тотальной разрухи в стране, а также провинциальности моего города, невозможности куда-либо путешествовать и т.п. причин, всё то же самое применимо к моему опыту. Как все ходили с пакетами с логотипами. Помню, как долго я носила в школу красный пакет, долженствующий рекламировать сигареты "Kent", и это было очень круто в моём личном понимании. А как я доставала родителей, чтобы мне покупали "брендовую" одежду, чтобы отличаться от сверстников, одевавшихся в одинаковую одежду, завезённую тысячными партиями на рынки города из Китая и Турции. Когда-то это было чем-то обыденным, а теперь про это пишут книги, серьёзно рассматривая наши нелепости как историческое явление, требующее не менее тщательного изучения, чем великие географические открытия или крестовые походы.
Уже потом обнаружила, что Галина Юзефович писала отзыв об этой книге. Я внимательно прочитала её Рыбу-лоцмана и отметила те книги, которые меня заинтересовали. Эта книга в её описании меня не заинтересовала ни капельки. Почему-то она может достаточно скучную книгу представить интригующе, а отзыв на эту она написала как будто "для галочки". Интересно, почему Галина так скупа на слова? Возможно, существует миллион ещё более прекрасных книг об эпохе, столь же подробно и интересно рассказывающие и анализирующие эпоху, а я и не в курсе?
В книге исследуется молодость последнего советского поколения, т.е. тех, кто родился в 60-70 года XX века с позиций культурологии и социальной антропологии. Автор в своем исследовании опирается на интервью взятые в 90-е годы, предоставленные ему письма, а также на воспоминания известных людей.
В книге изображена картина общество, где живая, реальная жизнь, сильно оторвалась от застывшего и окаменевшего идеологического фундамента. В первых главах автор разбирает описывает ритуализацию политической стороны жизни, создание особого языка на котором пишутся передовицы и на котором выступают ораторы. В дальнейших главах он вводит понятие вненаходимости и разбирает как различные группы молодежи старались жить в этой зоне вненаходимости. Любопытны рассуждения о воображаемом Западе.
Книга любопытна своими жизненными примерами из интервью и переписки, но каких-то глубоких выводов не содержит.
Мое отношение к книге Алексея Юрчака «Это было навсегда, пока не кончилось», менялось несколько раз еще до того я как я ее купил и прочитал. В первый раз книга мне показалась любопытной, но посмотрев внимательно оглавления я засомневался, интересны ли мне описания «кинг кримсон», некрореалистов, митьков и прочего мусора. Через некоторое время, прочитав положительные отзывы Игоря Гулина, я все же книгу купил. Первые сто страниц, касающиеся теоретической части действительно увлекательны. В первую очередь своим терминологическим разнообразием. Два основных концепта, от которых отталкивается автор - это детерриторизация Делеза, авторитетный дискурс Бахтина. Совмещая эти концепты с исследованиями перформативности, автор выводит основные понятия своей работы – перформативный сдвиг и вненаходимость. Одной из основных целей работы является показать, что культура позднего социализма, не строится на бинарных оппозициях. И до двухсотой страницы идет блестящий разбор, почему бинарные оппозиции не работают. Но вот вторая половина книги постепенно начинает разочаровывать. Так как примеры, становятся все менее интересными и убедительными. Это создает впечатление что книга «сдувается», в конечном случае вызывая разочарование.
Рецензия с длинным личным предисловием
Меня очень занимает вопрос, чем бывает обусловлен интерес человека к конкретной исторической эпохе, притом не к той, в которой он в данный момент проживает, а к какой-либо иной, отдалённой во времени. Так, я не могу разобраться до конца, чем объясняется мой интерес к советской эпохе и особенно к повседневности рядовых граждан в те времена.
Я родилась за год до распада Советского союза, то есть в сознательном возрасте в СССР не жила. В моей семье никто никогда не превозносил Ленина, партию и всё такое, не причитал, что раньше было лучше, но и не ругал систему, даже особенно не вспоминали прожитую жизнь. Было - и было. И прошло. Я же, сколько себя помню, постоянно мучила вопросами взрослых: маму - как одевались в школе, во что играли с друзьями, что делали на комсомольских слётах; бабушку - как жили в войну в сибирской деревне, а затем в конце 40-х в общежитии университета, как бабушка встретила дедушку, как на последнем курсе родилась моя тётя и бабушка за ней ухаживала и готовилась к сессии.. Разнообразные "мелочи жизни" ужасно меня интересовали, я буквально ничего с этим поделать не могла.
Я до сих пор люблю послушать представителей старшего поколения и почитать мемуары разных людей о жизни в Советском союзе в разные периоды времени начиная с 1920-х. Несколько лет назад я неожиданно открыла для себя жанр истории повседневности, в том числе советской повседневности, и с тех пор сохраняю себе разные книжные списки и стараюсь по мере возможности читать книги оттуда, перемежая их разнообразными воспоминаниями, мемуарами, художественной и иной литературой о жизни в СССР. Вот и книгу Юрчака я прочла на волне этого интереса к советской повседневности.
Книга удивила меня. Удивила очень серьёзным и глубоким подходом к рассматриваемой теме: позднесоветское поколение людей (под ними автор понимает тех, чей сознательный возраст пришёлся на последние годы существования СССР), их жизнь, взаимоотношения с идеологическим дискурсом; развитие и трансформация этого самого дискурса, парадоксы существования Союза ССР как одновременно стойкой, незыблемой и нерушимой и хрупкой, готовой в короткое время разрушиться безвозвратно системы. Автор пишет не только очень увлекательно, но и подробно, аргументированно, чётко излагает факты, подчёркивающие его точку зрения. Книга очень интересна также терминологически: её вполне можно читать "неподготовленному" в культурологическом плане человеку, то есть не имеющему какого-либо специального образования в этой сфере, однако небезынтересные термины, отсылающие к истории культуры, философии и лингвистике, в книге есть, и чтение становится в какой-то степени и познавательным.
На меня произвел впечатление авторский постулат о том, что некорректно рассматривать отношение проживающих в Советской России граждан к своей стране в типичном бинарном ключе: либо как безусловную поддержку идей, распространяемых на государственном уровне, и внутреннее принятие их, согласие с ними, либо как отрицание этих ценностей и борьбу с ними. Такой вроде бы простой вывод, что двумя этими крайностями всё многообразие отношений человека и системы не исчерпывается, - а вот поди ты, перебираю я навскидку многочисленные прочитанные произведения и понимаю, что отношение героев их к государственной политике и идеологии чаще всего подаётся именно в том или ином ключе, как безусловное согласие и принятие или же как отрицание и противодействие (или страдание от невозможности противодействия). Автор очень справедливо, на мой взгляд, рассуждает о том, что всё многообразие отношений не вписывается в устаревшую бинарную модель, которой часто придерживаются в том числе исследователи этой темы.
Очень интересна также, на мой взгляд, описанная автором исследования позиция "вненаходимости", в которой находилось, по его мнению, большое число советских граждан по отношению к официальному дискурсу. Вненаходимость эта определялась принятием людьми "правил игры" идеологического дискурса на уровне формы - то есть участие в каких-либо ритуалах, соблюдение неписаных правил, - и наделение их в то же время иным, зачастую совершенно не буквальным смыслом, а то и вовсе ненаделение никаким. Так, Юрчак приводит в пример демонстрации в честь 1 мая и 7 ноября: большинство людей знали, что ходить на такие демонстрации нужно, однако шли туда не потому и не затем, чтоб проникнуться всем вместе идеями и значением праздников, а чтобы хорошо и весело провести время с близкими и друзьями. В общем и целом предложенное автором понятие "вненаходимости" объясняет, пожалуй, отношение людей, живших в СССР, к коммунистической идеологии, их "взаимодействие" с системой. Помню, что после прочтения мною "Подстрочника" о жизни Лилианны Лунгиной у меня появилось ощущение, что в Советском союзе, если дело действительно обстояло так, как рассказывает известная советская переводчица, часто ощущалась некая "интеллектуальная духота", невозможность для честного, искреннего мыслящего человека нормального существования. Я высказала эту идею своим знакомым, людям, как раз по терминологии Юрчака относящимся к последнему советскому поколению, и была осмеяна, мне было сказано, что всё было совсем не так, что не нужно нагнетать и т.п. И тогда я была скорее шокирована таким несоответствием книги и жизни, а теперь я, кажется, понимаю, что имели в виду те мои знакомые. Возможно, дело именно в этой самой "вненаходимости", в которой пребывали люди, зная о существовании необходимых правил, ритуалов и процедур, выполнение которых в СССР было обязательно хотя бы для того, чтобы жить так, как удобно лично тебе, то есть достаточно было механического, на уровне формы воспроизводства этих правил для того, чтоб собственная жизнь шла "своим чередом" и наделялась интересными и нужными конкретному человеку смыслами, зачастую совершенно от официальной идеологии далёкими, и дело в том, что по прошествии времени вспоминаются именно эти личные смыслы, содержание, тогда как формальнвя сторона дела, по моему мнению, отходит в прошлое и извлекается памятью оттуда нечасто..
Что мне не очень понравилось в книге, так это скомканная и недостаточно, на мой взгляд, проработанная концовка. Автор очень интересно рассказывал о том, как трансформировался авторитетный дискурс в последние годы жизни Сталина и позднее, несколько раз повторяя, что дальше будет рассказ о том, как в годы перестройки сами базовые ценности коммунистической идеологии потеряют своё ведущее значение. И я ждала столь же развёрнутого объяснения этого явления, а оно неожиданно было дано в заключении к книге и весьма скупо и этак между делом как будто. Это чуточку разочаровало)
Но в целом книгой я очень довольна. Она очень интересна с разнообразных точек зрения, не только с позиции взгляда на советскую повседневность, но и с позиций культурологии и философии в целом, к тому же меня очень заинтересовала, например, теория языкознания Марра, о которой я узнала только сейчас, из этой книги, и захотела почитать про неё подробнее. Книга также поспособствовала получению ответов на некоторые мои личные вопросы. В общем, хорошо, что я повстречала эту книгу и прочла её. Это точно не было потерянным временем.
Эта система была одновременно мощной и хрупкой, вечной и готовой развалиться; она была полна жизненных сил и энергии, но наполнена серостью и унынием; реальная вера в высокие идеалы и нравственные ценности в ней соседствовала с цинизмом и отчуждением. Эти черты системы, несмотря на их кажущуюся противоречивость, были не только реальными, но и дополняющими друг друга.
Так получилось, что параллельно я читала две монографии - одну о временах Людовика XIV, другую о брежневской эпохе. И обе неожиданно оказались об одном и том же: как люди выстраивают для себя пространство жизни вне контроля власти. И уже можно не быть придворным в тисках этикета или "представителем советской молодежи" в силках идеологии. Нормальная жизнь становится возможной.
Для меня книга Юрчака оказалась очень интересной как одно из немногочисленных исследований СССР, автор которого демонстративно отказывается как от восхваления, так и от очернения своего предмета исследования. Более того, именно так и поступает!
Он начинает с анализа "авторитетного дискурса" - застывшего, ритализованного набора идеологем, который составлял позднесоветскую политическую риторику, - и того, как эти идеологемы воспринимались самими идеологами, диссидентами и большинством советских людей. (В последнем случае эффект получался совершенно незапланированным!). Затем рассматриваются различные "сообщества своих", от археологов до тусовки "митьков", существовавшие в позднесоветском обществе, а также элементы повседневной культуры того времени: понятие "фирменной" одежды, особенности восприятия в СССР западных рок-групп, анекдоты, страшилки и много чего еще.
Одно из ключевых понятий, которыми Юрчак описывает жизнь обычных людей поднесоветского времени, - вненаходимость. Не будучи ни диссидентами, ни советскими активистами, эти люди выполняли советские политические ритуалы и при этом прекрасно осознавали ритуальный характер своих действий. И именно поэтому оказывались вне поля зрения официальной советской культуры. Отличный пример - первомайские демонстрации, призванные собрать огромные колонны трудящихся, показывающих свою верность советской идеологии. Но это ли демонстрировали идущие в колоннах на самом деле? Или участие в официальном ритуале означало для них общение с друзьями, повод для праздника, а лозунги не имели значения?
"Вненаходимость" порождала новые, альтернативные субкультуры, которые советская система игнорировала, не могла отследить или интерпретировала неправильно. Автор приводит в качестве примера официальную критику стиляг или фанатов рока и то, как эта критика систематически била мимо цели.
Книга Юрчака показывает, как органично могли сочетаться в сознании людей ироничное отношение к советской бюрократии и искренняя вера в советские ценности, анекдоты про Брежнева и особая почтительность к Ленину, ощущение вечности СССР и его внутренняя уязвимость.
При чтении известной социально-антропологической работы А. Юрчака "Это было навсегда, пока не кончилось" меня посетило странное чувство неловкости. Как будто мне рассказали несмешной анекдот, а потом начали подробно и детально объяснять, в чём же там, собственно, юмор. Или наоборот: как будто мне самому пришлось заниматься этим ненужным делом.
Автор, следуя модной на сегодняшний день парадигме, изучает язык. Тот, на котором говорило последнее поколение, сформировавшееся в СССР (грубо говоря, наши родители). Язык официальных резолюций, неформальных тусовок, повседневного общения... На протяжении шестисот с лишним страниц А. Юрчак доказывает одну главную мысль: нельзя, мол, описывать советскую действительность через бинарную схему противопоставлений: активисты-диссиденты, советский-антисоветский, и так далее. Для большей части этого поколения жизненным ориентиром была концепция "вненаходимости", при которой следование советским нормам и лозунгам (конечно, не воспринимая их чересчур буквально) органично сочеталось с "несоветскими" увлечениями: рок-музыка, мода и так далее. Кто бы мог подумать, а?
Ещё одной важной составляющей этого исследования является т.н. "авторитетный дискурс" (понятие позаимствовано у М. Бахтина). Именно он отвечает за производство смыслов, вкладываемых в язык советской системы. Этот дискурс традиционно находился извне, а система к нему постоянно апеллировала. Пока был жив Сталин, именно он, активно редактируя не только разнообразные партийные постановления, но и экономические работы, учебник по истории и пр., создавал эти смыслы. После смерти "вождя народов" авторитетный дискурс, стоящий вне системы, фактически был утрачен, и с этих пор весь советский бюрократический язык ставил своей целью не производство новых смыслов, а как можно более точное следование заданной схеме, копирование словесных нагромождений и отсылок к авторитетам, ставших каноническими. Само общество в это время, понятное дело, менялось и всё более переставало соответствовать этим ритуальным заклинаниям. И как только эта брешь стала очевидной (с началом перестройки), системе пришёл конец.
Примерно так я всё и понял. Надеюсь, это краткое резюме не похоже на игру в испорченный телефон.
Это было навсегда, пока не кончилось
Аннотация у этой книги была более чем многообещающей. Антропологический труд, анализ идеологии, выводы на основе серьёзных трудов, аналитика деятельности Митьков, Юфита и некрореалистов, отказ от бинарного взгляда на историю советской системы, развитие собственного принципа "вненаходимости" - всё это выглядело достаточно вкусно, чтобы приобрести книгу не раздумывая.
Результатом я оказался более чем удовлетворён. Конечно, предисловия и авторское вступление вместе с первой главой идут для неподготовленного человека тяжеловато. Автор представляет свою концепцию "вненаходимости", спорит с Оруэлловской концепцией новояза, доказывая обратный эффект воздействия ограниченных лексических конструкций на мышление. Плотный и солидный текст с обилием отсылок на труды самых разнообразных учёных (и не только). Качественная аналитическая литература.
Последующие главы посвящены разбору различных элементов концепции вненаходимости на примере той или иной стороны общественной жизни советских граждан. Большое количество негативных комментариев в сторону автора вызвал тот факт, что граждане, приводимые в качестве примера в этой работе, не покрывают всего множества советского населения тех лет. С одной стороны стандартными статистическими методами анализа тут и не пахнет. С другой стороны примеры, здесь рассматриваемые, никак друг с другом не связаны, так что автору вполне себе можно верить.
В моей семье представителем последнего советского поколения (15-35 лет в 1985 году) является моя мама. Спорить с представленными в книге фактами она не стала. Однако информации от личных знакомых автора в научной работе хотелось бы видеть поменьше (тут в частности камень в сторону воспоминаний о ВИА АВИА).
Начало конца СССР по Юрчаку находится примерно в том же промежутке, в котором его видел я. Толчок к развёртыванию парадокса Лефора он видит в смерти Сталина и утрате референтной фигуры в идеологии, в то время, как мне всегда казалось, что дело в начале распаде диалектического материализма, который начался примерно тогда же.
В итоге Юрчак показывает, как закостеневшая идеология начала обрастать кучей новых персональных смыслов для каждого, люди стали разбредаться по своим углам и тусовкам с активной поддержкой со стороны партии, как партработники начали делить работу на полезную и формальную (чем и современные госслужащие активно занимаются) и как неформальное искусство менялось в атмосфере царящих в народе настроений.
Многие из рассмотренных элементов в книге справедливы и для текущего положения дел.
Очень интересное чтение - определённо заслуживает ознакомления.
Это было навсегда, пока не кончилось
Книга-просветитель
Для меня покупка этой книги стала очередной удачей из серии "любовь с первого взгляда". Увидев ее на ярмарке Книжного салона в СПб, сразу решила, что надо брать! Во-первых, это НЛО, а НЛО редко когда промахивается с выбором автора, во-вторых, вопрос " так почему же всё-таки СССР рухнул?" даже после окончания истфака у меня зудит по-прежнему, в-третьих, меня заинтересовал взгляд человека с мощным советским "бэкграундом", но западным образованием, следовательно -возможно, будут неизвестные интересные источники, многогранность и вообще взгляд из-за "бугра", ну, и в-четвертых, комплиментарный отзыв на обложке самого Жижека!
Нет, книга не разочаровала, более того, она совершенно заслуженно получила премию "Просветитель". Удивительно насколько автор легко вводит свою отнюдь непростую терминологию в лексикон читателя. Он неоднократно от главы к главе повторяет понятия, термины и пр., но не навязчиво, не по-попугайски, а уместно, так что к середине книги начинаешь сносно "плавать" в культурологии, советологии и прочих гуманитарных морях. Короче говоря, сей труд именно просвещает! И мне это стало особенно заметно в сравнении с другой научно-популярной книгой, которую я читала параллельно. Это была книга по психологии отечественного автора, который , видимо, решил популяризовать свою докторскую диссертацию. И в "наследство" для пущей "увлекательности" были оставлены громоздкий понятийный аппарат и совершенно непрозрачная методология. Про язык автора я уж умолчу. На таком фоне труд Юрчака просто сиял!))
Хочу возразить тем читателям, которые недовольны концовкой и нераскрытостью темы краха СССР, перестройки и пр. Это тема отдельной книги,если не книг. А во-вторых, исследование, как мне кажется, своим предметом имеет поздний социализм, который заканчивается в 1985 объявленной Горбачевым перестройкой. И в начале и в конце книги, автор утверждает, что система могла и НЕ рухнуть, если бы не ряд случайностей, и скрытые пороки, о которых он подробно писал. Просто так сложились условия, что обвал произошел, но это не имеет какого-то долженствования. И как пример для всех - процветающий до сих пор Китай.
Местами любопытно, местами скучно.
Но вожзникает вопрос - имеет ли это отношение к науке.
И не мешают ли наукообразные размышления восприятию материала, который берет Юрчак, или, к примеру. О.Хархордин.
Гонору у этих авторов ого-го (Ущё бы - на самом Западе признали!).
Но хороший журналист или критик написал бы гораздо интереснее и глубже.
Последнее советское поколение
Это книга о "последнем советском поколении" и для "последнего советского поколения".
Написана странно: достаточно научно, чтобы быть скучной, и недостаточно научно, чтобы быть убедительной. Но это первый! текст, который лично для меня внятно объясняет наше амбивалентное отношение к "развитому социализму".
Я очень хорошо помню, как именно ощущала советскую систему. Как это отношение менялось во время перестройки. И это первый автор, который адекватно описывает мои впечатления. Весьма убедительно показывает, почему бинарные описания "поддержка - сопротивление", "было хорошее, было плохое", "верили - притворялись" и т.д. - не работают.
Мне не очень понятен основной тезис о том, что "перформативный сдвиг" способствует не вырождению, а наоборот расцвету констатирующей части. Но сам процесс описан очень узнаваемо и есть над чем подумать. И что сопоставить.