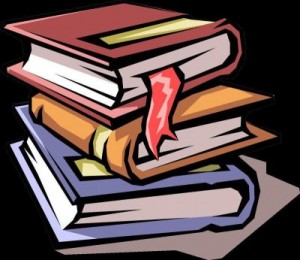На праздник собрались к батюшке гости. Маленькие, но светлые комнаты поповского дома полны были говора и шума. Прислуга сбилась с ног, батюшка встречал гостей с веселыми приветствиями, шутил и балагурил, как всегда, матушка ходила пунцовая от удовольствия. День склонялся к вечеру, но был еще зноен. Весело светило солнце, из сада в настежь распахнутые окна наплывал аромат цветов, а откуда-то по соседству, должно быть, из кухни, достигали такие вкусные запахи, что духовные по временам смущенно смолкали и, покашливая, одновременно взглядывали к кухонным дверям, пока, наконец, один из них не выдержал. -- А солнце-то на зака-а-те, -- тонким голосом нараспев сказал долговский псаломщик Митрофаныч, человек очень тощий, полуслепой и с длинным носом, -- а время-то на утра-а-те! И он продолжительно засмеялся беззвучным смехом, словно весь затрясся с головы до ног. Духовные сочувственно поддержали его, а тучный марьевский священник с веселым лицом, о. Аркадий, басовито пошутил. -- Еще и солнце-то не зашло, а у меня в животе темно и скучно! Батюшка бегал, хлопотал, суетился, хохотал, потирал руки, весело подмигивал. -- Отцы и братие, потерпите... скоро, скоро! Он выбегал в кухню, возвращался, таинственно сообщал. -- У матушки что-то с пирогом дело не выходит: затеяла его в полторы сажени, из печки не вытащит. А пирог-то замечательный... счастливый! Кому же ожидание не втерпеж... Он со смехом раскланивался, показывая куда-то рукою. -- Милости прошу, в уголок пожалуйте!