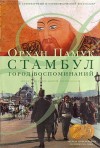Известный турецкий писатель Орхан Памук исследует genius loci Стамбула, переплетая собственные воспоминания с культурной историей города, в котором прожил более 50 лет. Автор показывает читателям памятники и утраченный рай Стамбула, узкие улочки, османские виллы и каналы, знакомит с писателями, художниками, журналистами и сумасшедшими историками, описавшими полтора столетия «модернизации» города. Прекрасным и увлекательным образом Памук преображает эту необычную биографию, начатую как «портрет...
Неистовое стремление к успеху в духе бальзаковского Растиньяка, столь свойственное жителям современных городов, не имеет ничего общего со стамбульской печалью, гасящей любые попытки противостоять порядкам и ценностям общины и весьма способствующей возникновению желания довольствоваться малым, быть таким, как все, и скромным во всем. Печаль, заставляющая придавать большое значение сплоченности и взаимопомощи — а без них не выжить во времена нужды и бедности, — дает возможность поставить с ног на голову понимание жизни и истории города. Представлять унижение и бедность не как следствие определенных исторических событий, а как достойный выбор, сделанный предками еще до твоего рождения, — такой образ мыслей, конечно, заслуживает уважения, но ведет он в тупик. Итак, неизлечимость, непобедимость и неизбежность бедности, растерянности и черно-белой палитры жизни стамбульцы воспринимают не как несчастье, а как достоинство.
Порой кто-нибудь выглядывал в окно, чтобы проводить глазами плывущий по Босфору устрашающих размеров советский военный корабль, снабженный радаром необычной формы.
...
Одной туманной ночью (если быть точным, в четыре часа утра 4 сентября 1963 года), когда видимость составляла не более десяти метров, 5500-тонный советский грузовой корабль «Архангельск», везущий оружие из Новороссийска на Кубу, врезался в берег в Балтылиманы, уйдя на десять метров в глубь суши.
...
В лицее у меня был одноклассник, уверявший, что любое подозрительное судно (старое, ржавое и потрепанное или плывущее непонятно под каким флагом) несомненно тайком везет из Советского Союза или оружие для повстанцев в такой-то и такой-то стране, или нефть, чтобы устроить хаос на мировых рынках.
...
Одним таким утром, когда я, съежившись от холода под одеялом, учил стихотворение, мои глаза вдруг увидели нечто такое, чего раньше им никогда видеть не доводилось. Очень хорошо помню, как я застыл в изумлении, позабыв про зажатую в руке книгу. Из ночной темноты выдвигалась и вырастала над морем таинственная громада, настоящий левиафан, наползающий, казалось, прямо на ближайший к морю холм (с которого я за ним и наблюдал). Словно вышедший из моих страшных снов призрак — советский военный корабль! Огромная плавучая крепость, вырастающая, будто в сказке, из ночного тумана! Моторы корабля были приглушены, и он плыл беззвучно, но столько в нем было мощи, что дрожали оконные рамы и деревянный пол, в темноте на кухне позвякивали небрежно повешенные печные щипцы, кастрюли и кофейники, а в отапливаемых комнатах, где спали родители и брат, дребезжали стекла. Легонько сотрясалась брусчатка переулка, ведущего к морю, и стоящие у дверей мусорные ведра тоже дребезжали, словно в нашем мирно спящем квартале случилось небольшое землетрясение. Так значит, правдой было то, о чем перешептывались стамбульцы: после полуночи по Босфору неслышно проходили русские военные корабли.
На какое-то мгновение мной овладело тревожное чувство ответственности. Весь город спал, и лишь я один видел этот огромный советский крейсер, направляющийся неведомо куда, чтобы натворить неизвестно каких бед.
Слово «хюзюн», как и слово tristesse, обозначает не болезненное чувство, от которого страдает один человек, а культуру печали, атмосферу печали, в которой живут миллионы людей
Любой человек, задумывающийся о смысле жизни, хотя бы раз задается вопросом о значении места и времени своего рождения. Почему я родился именно сейчас и именно в этом уголке мира? Справедливо ли, что мне, как лотерейный билет, выпали именно эти семья, страна, город, которые я должен был полюбить и в самом деле искренне полюбил?
Лишь тот пейзаж красив, что навевает грусть. Ахмет Расим
Одна из причин черно-белого восприятия, конечно, заключается в том, что Стамбул, красивый город с удивительной историей, обнищал, состарился и поблек, впал в небрежение и оказался отодвинутым на обочину жизни. Другая же причина — в том, что даже во времена самого пышного расцвета Османской империи ее архитектуре были свойственны простота и строгость. Печаль, оставшаяся после падения огромной империи, и ощущение того, что по сравнению с жителями Европы, которая географически расположена не так уж и далеко, стамбульцы приговорены к вечной бедности, похожей на неизлечимую болезнь, питают дух замкнутости Стамбула.
Благодаря черно-белой атмосфере, объединившей стамбульцев единой судьбой и поэтому неистребимой, отчетливее ощущается, насколько печален этот город. Чтобы лучше понять эту атмосферу, нужно прилететь в Стамбул на самолете из какой-нибудь богатой европейской столицы и сразу отправиться на людные улицы или зимним днем выйти на Галатский мост в самом сердце города и увидеть идущих по нему людей, облаченных в одежды неопределенного тускло-серого цвета. Современные стамбульцы, в противоположность нашим богатым и надменным предкам, очень редко одеваются ярко — красного, оранжевого или зеленого цвета здесь не увидишь. При взгляде на них иностранцу кажется, что эти люди в силу неких тайных моральных принципов стремятся не привлекать внимания к своему внешнему виду. Но дело тут не в моральных принципах, а в тяжелой печали, порождающей скромность. Ощущение поражения и утраты, постепенно проникавшее в город на протяжении последних полутора веков, оставило отпечаток бедности и обветшания на всем — от черно-белых пейзажей Стамбула до одежд его обитателей.
Каждый раз, когда я начинаю рассказывать о красоте Стамбула, Босфора и его темных улиц, некий внутренний голос говорит мне: ты, подобно писателям предыдущих поколений, преувеличиваешь красоту своего города, чтобы скрыть от самого себя изъяны собственной жизни. Если город представляется нам красивым и необыкновенным, значит, и наша жизнь такова. Каждый раз, когда я читал у писателей предыдущих поколений описания Стамбула и его головокружительной красоты, я, конечно, увлекался завораживающим языком повествования, но в то же время вспоминал о том, что эти писатели уже не жили в том большом городе, о котором рассказывают, и о том, что они предпочитали удобства уже европеизировавшегося Стамбула. У них я научился пониманию того, какова цена способности с неумеренным лирическим восторгом петь хвалу Стамбулу — обладать ею может только тот, кто уже не живет в городе, который описывает; для того, чтобы видеть красоту вещи, нужно смотреть на нее со стороны. Если писатель, в глубине души испытывающий чувство вины за это, берется разглагольствовать о ветхости и печали своего города, то он должен рассказать и о том таинственном отсвете, который они бросают на его жизнь; а если он увлеченно пишет о красоте города и Босфора, то должен помнить и о нищете своей жизни, о том, что его времена отнюдь не похожи на те, ушедшие в прошлое, времена побед и счастья.
людей вежливых и благовоспитанных принято вести себя так, будто разделения людей на умных и глупых не существует (равно как и религиозных, расовых, классовых, имущественных и — называемых все время в последнюю очередь — культурных различий).
... самое лучшее - жить так, как тебе подсказывает твое собственное сердце, деньги сами по себе - не источник счастья, а лишь один из способов его достижения...
... жизнь, в сущности, очень коротка, и хорошо, если человек знает, чего от нее хочет...
...мы никогда не сможем выяснить, в чем заключается смысл жизни и где спрятано счастье, — может быть, потому, что и не хотим этого знать...
Волнения жизни, подобно переливам мелодии и перипетиям захватывающей истории, рано или поздно подойдут к концу, а проплывающие перед нашими глазами образы города навсегда останутся с нами в наших мечтах и воспоминаниях.
Если город представляется нам красивым и необыкновенным, значит, и наша жизнь такова.
Я до сих пор люблю, проходя по вечерней улице или глядя из окна, всматриваться в окна чужие, в пространство чужой домашней жизни. Иногда я вижу женщину, в одиночестве гадающую на картах, — когда-то долгими зимними вечерами, если папа не возвращался домой, точно в такой же позе, раскладывая пасьянс, сидела мама и курила, курила… Иногда я вижу, как в маленьком полуподвальном помещении, освещенном таким же оранжевым светом, как когда-то наша гостиная, сидит за вечерней трапезой семья; глядя на то, как эти люди мило беседуют друг с другом, я наивно заключаю, что они счастливы. В Стамбуле чаще, чем где бы то ни было, приезжие из-за рубежа забывают, что для понимания сути города мало наблюдать происходящее на виду — нужно знать и то, что происходит за стенами, в укромных местах, куда нет доступа посторонним.
Однако для художника важна не суть вещей, а их форма, для романиста значение имеет не последовательность событий, а их взаимосвязь, а для мемуариста самое главное — не правдивость воспоминаний о прошлом, а их симметрия.
Так я впервые столкнулся с противоречием (впоследствии оно долго не давало мне покоя), которое европеец назвал бы парадоксом: мы можем обрести свою собственную индивидуальность, только подражая другим.
... я каждый раз думаю, что неповторимым и уникальным город делает не его топография, не здания и не людские представления о нем, возникающие по большей части случайно, а совокупность случайных встреч его обитателей, живущих, как я, пятьдесят лет на одних и тех же улицах, их воспоминаний, слов, цветов и образов, накопленных их памятью.
...ответов на главные вопросы жизни нам не найти, но это не так уж и важно — все равно их нужно задавать...
Пойдя в школу, я узнал, во-первых, что некоторые люди глупы, а во-вторых, — что среди этих глупцов встречаются настоящие идиоты. Я был еще слишком маленьким, чтобы понимать, что у людей вежливых и благовоспитанных принято вести себя так, будто разделения людей на умных и глупых не существует...
Может быть, само звание богача предполагает постоянное притворство?
И каждый новый взгляд на фотографии учил меня понимать важность прожитой жизни и отдельных ее мгновений, выхваченных из потока времени и вставленных в рамку, дабы было видно, что сохранены они не зря. Порой, наблюдая за тем, как дядя пытается добиться от моего брата решения какой-нибудь математической задачки, я переводил глаза на его фотографию, сделанную тридцать лет назад; или, сидя рядом с отцом, просматривающим газеты и одновременно прислушивающимся к шутливому разговору в гостиной (я понимал это по улыбке на его лице), я бросал взгляд на фотографию, где он был запечатлен в моем возрасте, с длинными, как у девочки, волосами, — и у меня появлялось ощущение, что жизнь дается нам именно для того, чтобы мы могли пережить эти главные ее мгновения и заключить их потом в рамку. Иногда бабушка, рассказывая о рано ушедшем из жизни дедушке, словно повествуя о деяниях основателя некоего государства, указывала рукой на развешанные на стенах и расставленные на столах фотографии, и ее жест подчеркивал противоречие между неповторимыми мгновениями жизни и ее обычным течением. Я осознавал, что эти особенные мгновения, под защитой рамки противящиеся ходу времени, ветшанию вещей и старению людей, наделены особым значением и смыслом; и все-таки при взгляде на них мне становилось немного грустно.
... важно прислушиваться к своей душе, и заниматься тем, что тебе на самом деле интересно...
Но что бы ни сказали мы о городе, о его характере, духе и атмосфере - все это в большей степени будет относиться к нам самим, к нашей жизни и нашему душевному состоянию. У города нет иного центра, кроме нас самих.