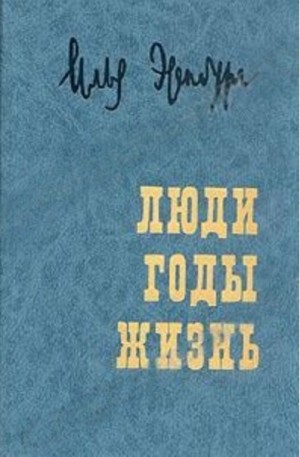Знаменитые воспоминания «Люди, годы, жизнь» Ильи Эренбурга — одна из культовых книг середины ХХ века. Впервые опубликованная в 1960–1965 гг. на страницах «Нового мира», она сыграла исключительную роль в формировании поколения шестидесятых годов; именно из нее читатели впервые узнали о многих страницах нашей истории. В 1–й том вошли первые три книги воспоминаний, охватывающие события от конца XIX века до 1933 г., рассказы о встречах с Б. Савинковым и Л. Троцким, о молодых П. Пикассо и А. Модильяни, портреты М. Волошина, А. Белого, Б. Пастернака, А. Ремизова, повествование о трагических судьбах М. Цветаевой, В. Маяковского, О. Мандельштама, И. Бабеля. Комментарии к мемуарам позволяют лучше понять недоговоренности автора, его, вынужденные цензурой, намеки. Книга иллюстрирована многочисленными уникальными фотографиями. Во 2–й том мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь» вошли четвертая и пятая книги, посвященные 1933–1945 годам, а также комментарии, содержащие многие исторические документы и свидетельства, редкие фотографии. В четвертой книге Эренбург описал то, что видел лично: предвоенную Европу, войну в Испании, встречи с И. Ильфом и Е. Петровым, А. Жидом, Р. Фальком, Э. Хемингуэем и М. Кольцовым, процесс над Н. Бухариным, падение Парижа в 1940–м. Пятая книга целиком посвящена событиям Отечественной войны 1941–1945 гг., антифашистской работе Эренбурга. Рассказы о фронтовых поездках, встречах с военачальниками К. Рокоссовским, Л. Говоровым, И. Черняховским, генералом А. Власовым, дипломатами, иностранными журналистами, писателями и художниками, о создании запрещенной Сталиным «Чёрной книги» о Холокосте. Изданные на основных языках мира, воспоминания И. Эренбурга дают широчайшую панораму ХХ века. В 3–й том вошли шестая и седьмая книги мемуаров И. Эренбурга «Люди, годы, жизнь». Шестая книга рассказывает о событиях 1945–1953 гг. Послевоенная Москва, путешествие с К. Симоновым по Америке, Нюрнбергский процесс, убийство С. Михоэлса и борьба с «космополитами»; портреты А. Эйнштейна и Ф. Жолио-Кюри, А. Матисса и П. Элюара, А. Фадеева и Н. Хикмета. Книга кончается смертью Сталина, открывшей возможность спасительных перемен в стране. Седьмая книга посвящена эпохе хрущевской оттепели и надеждам, которые она породила. ХХ съезд, разоблачивший преступления Сталина, события в Венгрии, путешествия по Индии, Японии, Греции и Армении, портреты Е. Шварца, Р. Вайяна и М. Шагала. «После очень длинной жизни мне не хочется говорить того, чего я не думаю, а молчание в некоторых случаях хуже, чем прямая ложь», — писал Эренбург А. Т. Твардовскому, отстаивая свое понимание прожитого.
Вообще, когда я загрузил эту книгу в ридер и глянул на счётчик страниц, то слегка впал в уныние, потому что табло показывало цифру за 2500. Правда потом понял, что загнал в book все семь томов воспоминаний, а ведь по правилам Флэшмоба не рекомендуется советовать для чтения многотомные и мегастраничные эпопеи. И потому могу ограничиться чтением только тома первого. Найдя себе отмаз успокоив себя таким образом, я вперил глаза в книгу и... когда я в следующий глянул на счётчик, то прочитано уже было около сотни страниц...
Книга написана очень живым, порой близким к разговорному, но в то же время высоколитературным языком. Очень ярко, красочно и выпукло прописаны страницы с детскими воспоминаниями автора, но и с переходом в более взрослый возраст образность текста не стала менее насыщенной. И потому чтение этого романа-воспоминания сразу же превращается в нечто, входящее в разряд книжных удовольствий. Даже несмотря на наличие в книге изрядной доли советской риторики и политической идейности (не нужно забывать, что книга была написана в эпоху "хрущёвской оттепели" и потому Эренбург вволю выплёскивает на читателя тот воздух свободы, которым тегда ещё дышало всё и вся). Вообще мне показалось, что можно смело пренебречь нюансами политической жизни и политических же идей, а рассматривать книгу прежде всего как документ эпохи. Эпохи конца века XIX — начала века XX. И документ этот читать прелюбопытно, потому что автор, по моему разумению, не стремится как-то приукрасить ковёр бытия и выпекает пирожки реальности доведёнными до нужной кондиции.
Второй интерес вызывают зарисовки автора о самых разных нестандартных и весьма оригинальных людях, с которыми он встречался во время своего пребывания в заграницах, а с некоторыми из этих людей ещё и дружил. Уже одна только фамилия Пикассо способна кого угодно привести в восторженный ступор, а в первом томе речь будет идти не только о нём, а о целой плеяде творческих современников Эренбурга — художниках и писателях, поэтах и прочих людях искусства. Вот даже я, довольно далёкий от всяческих искусствоведческих изысканий человек, и то вволю насладился соответствующими страницами и главами первого тома, и совершенно очевидно, что непременно буду читать и том второй, а там и третий... Просто не заподряд, а с перерывами на другие книги — нельзя же ведь в один присест слопать двухкилограммовый торт, а вот ежели врастяжку, то почему бы и нет :-) Вы это... присоединяйтесь, ежли что!
Книга прочитана в рамках игры Флэшмоб 2013 (24/24, Флэшмоб закончен), за рекомендацию прочесть эту махину моя искренняя благодарность Artevlada
Вообще, когда я загрузил эту книгу в ридер и глянул на счётчик страниц, то слегка впал в уныние, потому что табло показывало цифру за 2500. Правда потом понял, что загнал в book все семь томов воспоминаний, а ведь по правилам Флэшмоба не рекомендуется советовать для чтения многотомные и мегастраничные эпопеи. И потому могу ограничиться чтением только тома первого. Найдя себе отмаз успокоив себя таким образом, я вперил глаза в книгу и... когда я в следующий глянул на счётчик, то прочитано уже было около сотни страниц...
Книга написана очень живым, порой близким к разговорному, но в то же время высоколитературным языком. Очень ярко, красочно и выпукло прописаны страницы с детскими воспоминаниями автора, но и с переходом в более взрослый возраст образность текста не стала менее насыщенной. И потому чтение этого романа-воспоминания сразу же превращается в нечто, входящее в разряд книжных удовольствий. Даже несмотря на наличие в книге изрядной доли советской риторики и политической идейности (не нужно забывать, что книга была написана в эпоху "хрущёвской оттепели" и потому Эренбург вволю выплёскивает на читателя тот воздух свободы, которым тегда ещё дышало всё и вся). Вообще мне показалось, что можно смело пренебречь нюансами политической жизни и политических же идей, а рассматривать книгу прежде всего как документ эпохи. Эпохи конца века XIX — начала века XX. И документ этот читать прелюбопытно, потому что автор, по моему разумению, не стремится как-то приукрасить ковёр бытия и выпекает пирожки реальности доведёнными до нужной кондиции.
Второй интерес вызывают зарисовки автора о самых разных нестандартных и весьма оригинальных людях, с которыми он встречался во время своего пребывания в заграницах, а с некоторыми из этих людей ещё и дружил. Уже одна только фамилия Пикассо способна кого угодно привести в восторженный ступор, а в первом томе речь будет идти не только о нём, а о целой плеяде творческих современников Эренбурга — художниках и писателях, поэтах и прочих людях искусства. Вот даже я, довольно далёкий от всяческих искусствоведческих изысканий человек, и то вволю насладился соответствующими страницами и главами первого тома, и совершенно очевидно, что непременно буду читать и том второй, а там и третий... Просто не заподряд, а с перерывами на другие книги — нельзя же ведь в один присест слопать двухкилограммовый торт, а вот ежели врастяжку, то почему бы и нет :-) Вы это... присоединяйтесь, ежли что!
Книга прочитана в рамках игры Флэшмоб 2013 (24/24, Флэшмоб закончен), за рекомендацию прочесть эту махину моя искренняя благодарность Artevlada
Долго не решалась взяться за эту книгу из-за объема - 7 книг (3 бумажных тома), более 2000 страниц. Но читать оказалось легко и невероятно интересно, рассказчик Эренбург мастерский. Перечислить всех знаменитых людей, которые фигурируют в этой книге, невозможно, даже пытаться не буду. Практически каждая глава - история отдельного человека, каким его узнал в своей жизни Илья Эренбург. Назову несколько фамилий, о ком мне было особо интересно читать: Пикассо, Модильяни, Леже, Мандельштам, Маяковский, Бабель, Хэмингуэй, Сартр, Элюар, Фадеев, Гроссман, Симонов, Ильф и Петров, Эйнштейн, Жолио Кюри, Пабло Неруда, Мейерхольд, Матисс, Е.Шварц.
Если идти по годам и странам, то здесь дореволюционная Россия и Франция, Кавказ, Украина, сталинские репрессии, война в Испании, захват фашистами Парижа, Великая Отечественная Война, Нюрнбергский процесс, Европа и Америка времен "холодной войны", хрущевская оттепель в Москве, многочисленные конгрессы мира и путешествия Эренбурга в Китай, Индию, Венгрию, Грецию, Японию. И на протяжении всей книги автор пытается найти ответ на один вопрос: откуда в людях берется национализм, расизм, жесткость к себе подобным? Он наблюдал, как культурная интеллигентная Европа заражалась идеями фашизма, вглядывался в глаза преступников на Нюрнбергском процессе, пытаясь понять, кто же виноват в происшедшем, вместе с Гроссманом составил "Черную книгу" о геноциде еврейского народа, ездил по югу Америки, изучая жизнь афроамериканцев, изучал армянский геноцид, пытался как-то осмыслить сталинские репрессии, был активным участником всемирного движения сторонников мира.
Ну и, конечно же, много места в книге уделяется литературе, искусству (Эренбург увлекался театром, живописью). Зрелые, глубокие размышления человека и поэта. Очень рекомендую эту книгу всем без исключения, это не очерки по истории, это прекрасное художественное произведение, написанное ярко, с юмором, порой хлесткое, ироничное, но очень живое и познавательное.
Вспоминаю себя, читающего
*** Вспоминаю себя, читающего Книгу жизни Ильи Эренбурга. Опоздавший журнал листающего Беспорядочно, быстро, сумбурно. С бутербродом, наспех умывшегося, В непротопленной утром квартире На раскопках давно случившегося В предвкушении нового мира. http://alex-vinokur.dreamwidth.org/412575.html
Источник
Непрерывные разговоры о своём превосходстве связаны с пресмыкательством перед чужестранным – это различные проявления того же комплекса неполноценности.
Можно, разумеется, по-разному относиться к Европе – «открывать окно», законопачивать двери, можно и вспомнить, что вся наша культура – от Киевской Руси до Ленина – неразрывно связана с культурой Европы.
Мы иначе относимся к книгам наших современников, чем к произведениям классиков, герои романов часто в нашем сознании сливаются с обликом автора.
Писателю трудно работать в газете: он думает, что он - игрок, а он только карта.
/о Волошине/
Андрей Белый в своих воспоминаниях говорит, что Волошин казался ему примерным парижанином — и по прекрасному знанию французской культуры, и по своей внешности: борода, подстриженная лопатой, «не нашенская», цилиндр, манеры. Поскольку и познакомился с Максом в Париже. я никак не мог его принять за парижанина; мне он напоминал русского кучера, да и борода у него была скорее кучерская, чем радикал-социалистическая (накануне войны бороды в Париже начали исчезать, но их сохраняли солидные радикал-социалисты из уважения к традициям благородного XIX века). Правда, русские кучера не носили цилиндров, это был головной убор французских извозчиков, но на длинных густых волосах Макса цилиндр казался аксессуаром цирка.
В Париже Волошин слыл не только русским, но архирусским, он охотно рассказывал французам о раскольниках, которые жгли себя на кострах, о причудах Морозова или Рябушинского, о террористах, о белых ночах Петербурга, о живописцах «Бубнового валета», о юродивых Древней Руси. В Москве, по словам Андрея Белого, Макс блистал рассказами о бомбе, которую анархисты бросили в ресторан Файо, о красноречии Жореса, о богохульстве Реми де Гурмона, о видном математике Пуанкаре, о завтраке с молодым Ришпеном. У Волошина повсюду находились слушатели, а рассказывать он умел и любил.
Дети играют в сотни замысловатых или простейших игр, это никого не удивляет; но некоторые люди, особенно писатели и художники, сохраняют любовь к игре до поздних лет. Горький рассказывал, как Чехов, сидя на скамейке, ловил шляпой солнечного «зайчика». Пикассо обожает изображать клоуна, участвует в бое быков как самодеятельный тореадор. Поэт Незвал всю жизнь составлял гороскопы. Бабель прятался от всех, и не потому, что ему могли помешать в его работе, а потому, что любил играть в прятки. Макс придумывал невероятные истории, мистифицировал, посылал в редакцию малоизвестные стихи Пушкина, заверяя, что их автор аптекарь Сиволапов, давал девушке, которая кричала, что хочет отравиться, английскую соль и говорил, что это яд из Индонезии; он играл, даже работая; есть у него статья «Аполлон и мышь», которую иначе чем игрой не назовешь. Он обладал редкой эрудицией; мог с утра до вечера просидеть в Национальной библиотеке, и выбор книг был неожиданным: то раскопки на Крите, то древнекитайская поэзия, то работы Ланжевена над ионизацией газов, то сочинения Сен-Жюста. Он был толст, весил сто килограммов; мог бы сидеть, как Будда, и цедить истины; а он играл, как малое дитя. Когда он шел, он слегка подпрыгивал; даже походка его выдавала — он подпрыгивал в разговоре, в стихах, в жизни.
Ему удалось одурачить, или, как теперь говорят, разыграть, достаточно скептичный литературный Петербург. Вдруг откуда-то появилась талантливая молодая поэтесса Черубина де Габриак. Ее стихи начали печататься в «Аполлоне». Никто ее не видел, она только писала письма редактору журнала С. К. Маковскому, который заочно в нее влюбился. Черубина сообщала, что по происхождению она испанка и воспитывалась в католическом монастыре. Стихи Черубины похвалил Брюсов. Все поэты-акмеисты мечтали ее встретить. Иногда она звонила Маковскому по телефону, у нее был мелодичный голос. Никто не подозревал, что никакой Черубины де Габриак нет, есть никому не известная талантливая поэтесса Е. И. Дмитриева, которая пишет стихи, а Волошин помогает ей мистифицировать поэтов Петербурга. В Черубину влюбился и Гумилев, а Макс развлекался. Возмущенный Гумилев вызвал Волошина на дуэль. Макс рассказывал: «Я выстрелил в воздух, но мне не повезло — я потерял в снегу одну галошу…» (Е. И. Дмитриева продолжала и впоследствии писать хорошие стихи. Незадолго до своей смерти С. Я. Маршак попросил меня приехать к нему. Он говорил мне о судьбе Е. И. Дмитриевой, рассказывал, что в двадцатые годы написал вместе с Елизаветой Ивановной несколько пьес для детского театра — «Кошкин дом», «Козел», «Лентяй» и другие. Пьесы эти вышли с именами обоих авторов. Мотом Е. И. Дмитриеву выслали в Ташкент, где она умерла в 1928 году. В переиздании пьес выпало се имя. Самуила Яковлевича мучило, что судьба и творчество Е. И. Дмитриевой, бывшей Черубины де Габриак, неизвестны советским читателям. Он советовался со мной, что ему следует сделать, и я вставляю эти строки, как двойной долг и перед С. Я. Маршаком, и перед Черубиной де Габриак, стихами которой увлекался в молодости.)
Чего Волошин только не выдумывал! Каждый раз он приходил с новой историей. Он не выносит бананов, потому что — это установил какой-то австралийский исследователь — яблоко, погубившее Адама и Еву, было вовсе не яблоком, а бананом. У антиквара на улице Сэн он нашел один из тридцати сребреников, которые получил некогда Иуда. Писатель восемнадцатого века Казотт в 1778 году предсказал, что Кондорсе отравится в тюрьме, чтобы избежать гильотины, а Шамфор, опасаясь ареста, разрежет себе жилы. Он не требовал, чтобы ему верили, — просто играл в интересную игру.
Он встречался с самыми различными людьми и находил со всеми нечто общее; доказывал А. В. Луначарскому, что кубизм связан с ростом промышленных городов, что это — явление не только художественное, но и социальное; приветствовал самые крайние течения — футуристов, лучистов, кубистов, супрематистов и дружил с археологами, мог часами говорить о вазе минойской эпохи, о древних русских заговорах, об одной строке Пушкина. Никогда я не видел его ни пьяным, ни влюбленным, ни действительно разгневанным (очень редко он сердился и тогда взвизгивал). Всегда он кого-то выводил в литературный свет, помогал устраивать выставки, сватал редакциям русских журналов молодых французских авторов, доказывал французам, что им необходимо познакомиться с переводами новых русских поэтов. Алексей Николаевич Толстой рассказывал мне, как в молодости Макс его приободрил. Волошин сразу оценил и полюбил поэзию молоденькой Марины Цветаевой, пригрел ее. В трудное время гражданской войны он приютил у себя Майю Кудашеву, которая писала стихи по-французски, а потом стала женой Ромена Роллана.
Ходил он в своеобразной одежде (цилиндр был, скорее, парадной вывеской, чем шляпой) — бархатные штаны, а в Коктебеле рубашонка, которую он пресерьезно именовал «хитоном». Над ним посмеивались; Саша Черный писал про «Вакса Калошина», но Макс не обижался. Был Макс подпрыгивающий, который рассказывал, что Эйфелева башня построена по рисунку древнего арабского геометра. Был и другой Макс — проще, который жил в Коктебеле с матерью (ее называли Пра); в трудные годы этот второй Макс уплетал котелок каши. Всегда в его доме находили приют знакомые и полузнакомые люди; многим он в жизни помог.
Глаза у Макса были приветливые, но какие-то отдаленные. Многие его считали равнодушным, холодным: он глядел на жизнь заинтересованный, но со стороны. Вероятно, были события и люди, которые его попа стоящем у волновали, но, он об этом не говорил; он всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было.