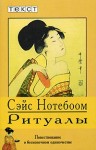«Ритуалы» — пронзительный роман о трагическом одиночестве человека, лучшее произведение замечательного мастера, получившее известность во всем мире. В Нидерландах роман был удостоен премии Ф. Бордевейка, в США — премии «Пегас». Книги Нотебоома чем то напоминают произведения чешского писателя Милана Кундеры. Главный герой (Инни Винтроп) ведет довольно странный образ жизни. На заводе не работает и ни в какой конторе не числится. Чуть-чуть приторговывает картинами. И в свое удовольствие сочиняет...
Как странно, что память для нас единственное ценное достояние, думал Инни. Тот, кто ее ворошит, считается захватчиком. Теперь он вынужден спуститься в глубины прошлого, а чего доброго, еще и пересмотреть его
Некоторые люди думают, что, давая своему дитяти имя знаменитости, заодно обеспечивают его соответствующим талантом
даже если б я веровал в Бога, я бы все равно вышел из вашей церкви. От того, что основано на страдании и смерти, ждать добра не приходится
Церковь, которую вы вдобавок зовете матерью, не раз была убийцей, нередко палачом и всегда тираном
— Сорок, — говорил он, — это возраст, когда нужно либо начинать все по третьему разу, либо учиться на зловредного старика.
“У некоторых женщин столько преданности, что от верной катастрофы их может спасти только измена, одна-единственная.”
“Я — светильник для невежествующего, который ходит во мраке.”
“Видишь ли, цвет чашки должен был оттенять странную зелень японского чая…”
Я не очень-то высокого мнения о людях. В большинстве они лентяи, конформисты, бестолочи, скряги, вдобавок так и норовят облить друг друга грязью.
Память чем-то похожа на собаку - где хочет, там и ляжет.
Не родиться - безусловно лучшая из существующих идей. К несчастью, она неприменима к человеку.
Вообще-то он был твердо уверен, что не только не
хочет, но и не должен никем становиться. Мир и без него кишмя кишит людьми,
которые кем-то стали, и большинству это явно никакого счастья не принесло.
“Я не очень-то высокого мнения о людях. В большинстве они лентяи, конформисты, бестолочи, скряги, а вдобавок так и норовят облить друг друга грязью. Там, в горных высях, тебя это не беспокоит.”
“Ел Таадс точно так же, как ходил, быстро, механически, — не ел, а заправлялся.”
“Сорок, — говорил он, — это возраст, когда нужно либо начинать все по третьему разу, либо учиться на зловредного старика.”
“Больше всего мне не хватает ее отсутствия, — говорил Инни своему другу-писателю. — Таких людей вечно нет дома, в итоге это входит в привычку.”
"Жизнь как происшествие..."
“Есть вещи, на которых нужно ставить крест, даже если они возможны. Теперь, в сорок лет, ему уж точно не бывать пианистом, не выучить японский, и от этой уверенности его охватывало горькое сожаление, как будто жизнь только сейчас начала выставлять напоказ свои пределы и оттого смерть обрела зримые очертания: неправда, что все возможно. Пожалуй, все и было возможно, раньше, но не теперь.”
“У человека не тысяча жизней, а всего лишь одна.”
“Реальность и нереальность, — продолжал Филип Таадс, — добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, красота и уродство — все противоположное есть, по сути, одно и то же.”
“— Единосущность?
— Да.
— Красивое слово. — Инни еще раз попробовал его на вкус: — Единосущность.
Таадс как будто бы неожиданно собрался с духом:
— Согласно Чжуан-цзы...
— Чжуан как?
— Чжуан-цзы. Так вот, по мысли этого даоса, все вещи находятся в состоянии непрерывной самотрансформации, каждая по-своему. В вечном изменении вещи появляются и исчезают. То, что мы зовем временем, вообще роли не играет. Все вещи одинаковы.”
“Тишина не могла стать глубже, чем уже была, и все-таки она будто еще сгустилась, а может быть, это их погрузили в стихию более опасной, более плотной консистенции.”
Человек - печальное млекопитающее, гребнем расчесывающее волосы.
Он что же, все-таки начал думать? Похоже, штука явно заразная.