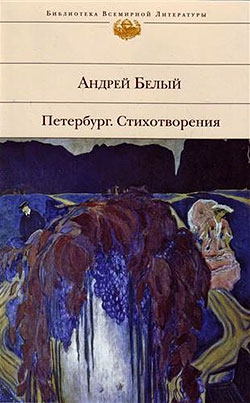Андрей Белый (Борис Николаевич Бугаев) – одна из ключевых фигур Серебряного века, оригинальный и влиятельный символист, создатель совершенной и непревзойденной по звучанию поэзии и автор оригинальной «орнаментальной» прозы, высшим достижением которой стал роман «Петербург», названный современниками не прозой, а «разъятой стихией». По словам Д.С.Лихачева, Петербург в романе – «не между Востоком и Западом, а Восток и Запад одновременно, т. е. весь мир. Так ставит проблему России Белый впервые в русской литературе».
Андрей Белый – яркий представитель русского модернизма и символизма, поэтому, если читателю не близки данные направления в литературе, то можно не рассчитывать на понятие и принятие.
Роман «Петербург» сравнивают с «Улиссом» Джойса: я бы этого делать не стала, потому что до «Улисса» всё-таки по монотонности и нудности никому не добраться в ближайшие лет сто, за исключением, может быть, только Терехова!
Первая публикация была в 1913 году, а вот в 1922 году писатель решил отредактировать книгу и сократить объём на треть и повторно переиздать.
Вот не смогу сказать, что я расплавилась под прекрасной и необыкновенно интересной фабулой романа: честно каюсь, что не прониклась, а читала только ради того, чтобы прикоснуться к так называемой великой литературе.
В своём романе автор поднимает важную проблему отцов и детей, страстную приверженность идее, которая мне не близка. Революционный пыл, убийства ради благого дела мне никогда не были понятны. Я думаю, что не стоит тратить силы на то, что мы не в состоянии изменить, так как любая жертва будет напрасной и бессмысленной. Преступление есть преступление. Хорошо, что иногда у революционеров случались осечки, но существуют вещи, которые простить не получается. Нет ничего удивительного в том, что отца расстроило поведение родного сына.
Андрей Белый – яркий представитель русского модернизма и символизма, поэтому, если читателю не близки данные направления в литературе, то можно не рассчитывать на понятие и принятие.
Роман «Петербург» сравнивают с «Улиссом» Джойса: я бы этого делать не стала, потому что до «Улисса» всё-таки по монотонности и нудности никому не добраться в ближайшие лет сто, за исключением, может быть, только Терехова!
Первая публикация была в 1913 году, а вот в 1922 году писатель решил отредактировать книгу и сократить объём на треть и повторно переиздать.
Вот не смогу сказать, что я расплавилась под прекрасной и необыкновенно интересной фабулой романа: честно каюсь, что не прониклась, а читала только ради того, чтобы прикоснуться к так называемой великой литературе.
В своём романе автор поднимает важную проблему отцов и детей, страстную приверженность идее, которая мне не близка. Революционный пыл, убийства ради благого дела мне никогда не были понятны. Я думаю, что не стоит тратить силы на то, что мы не в состоянии изменить, так как любая жертва будет напрасной и бессмысленной. Преступление есть преступление. Хорошо, что иногда у революционеров случались осечки, но существуют вещи, которые простить не получается. Нет ничего удивительного в том, что отца расстроило поведение родного сына.
В каком году из Петербурга исчезли красивые люди?
Он оглушен
Был шумом внутренней тревоги.
И так он свой несчастный век
Влачил, ни зверь ни человек,
Ни то ни сё, ни житель света,
Ни призрак мертвый...(А.С. Пушкин «Медный всадник»)
Некий молодой человек, возможно, наш с вами современник любит большие города. Величие архитектуры исторической части, обилие новостроек на окраинах, толпы людей в метро – все это обнадеживает и наполняет оптимизмом. Но иногда, иногда! Когда он устает каждое утро проигрывать в датскую рулетку, когда разочаровывается в самом себе многократно в течение дня, вот тогда поздно вечером он выходит в ночное тело города, в игру тумана, в дымновеющую мокроту, наполненную зонтами прохожих – плывующую густоту котелков, усов, подбородков. Зачем выходит? Наверное, отыскать в большом городе чуточку человеческого тепла. Но город холоден даже летом, его громада давит и давит, некуда деться, вернись, молодой человек, в свое достоевское подполье на верхнем этаже (выше только чердак и космос), в одиночество, одиночество, одиночество.
Но и там тебя не оставят в покое, не получится укрыться одеялом. Вот уже по лестнице слышна тяжелая поступь. Нет, это не каменный гость – этот для общительных и любвеобильных, за тобой же идет медный всадник, и неважно где ты: в Петербурге, Москве или Нью-Йорке. Одиночку в любом случае догонит всадник на медном (бронзовом вообще-то) коне. Потому что Петербург – город для любого русского человека особенный, с ним связаны мечты и воспоминания, литературные традиции и модернистские эксперименты. Значит, так или иначе, каждый бывал там, за каждым следила каменная кариатида того самого здания, каждый бродил вдоль каналов, вызревая в себе внутреннюю рыбу. И где остался след молодого человека, там возрос лишайник.
Петербург – город красивый, миллионы туристов не могут ошибаться. Есть теория, что наше сознание определяет бытие, не только в философско-отвлеченном смысле, а реально. Город – это отображение людей его населяющих. И если это правда, то Петербург строили красивые внутренне и внешне люди. Но ведь времена меняются! И люди меняются с ними. Что если русский поэт опишет город начала 20 века, после событий и перед ними, в период смуты и шатания? Красивых людей уже не будет, вообще не останется лиц, одни хари кругом. Они движутся и движутся, и молодой человек того периода пытается идти в ногу, ведь все как у людей должно быть! Или не людей – порождений. Но это проблема, если начинаешь видеть в людях бесов, мелких и не очень, вырвавшихся знамо откуда. И тогда один выход – надеть красное домино, спрятать лицо под маску, стать красным шутом, и тогда в страшном карнавале города ты будешь своим. Будешь есть, спать и вожделеть. Будешь бродить в полумраке полуяви, и не напишешь деревянным мечем письмена, которыми восхитится ОНА. Нет, ты напугаешь ее нелепым и лишенным романического изящества падением у Зимней Канавки, а придя на бал вовсе ее не заметишь. Может, вовсе и не нужна она тебе? Ты придумал ее образ, сам его и сотри. НАЧИСТО.
Роман Андрея Белого можно использовать в качестве лакмусовой бумажки на сумасшествие. Есть книги, которые лечат, есть которые сводят с ума. Эта диагностирует. Если близок тебе – нет, не герой, герои там невыразительны и вторичны все до одного – а город, в его сумасшедшей пляске департаментов и забастовок, значит стоит задуматься о своем душевном здоровье. Если уверен, что ножницы вполне могут быть средством от боли в сердце. Знаешь, каково это, когда твое время отсчитывает бомба с часовым механизмом. Понимаешь, что имел ввиду Хармс, говоря про дней Катыбр. Если наблюдаешь взаимное насилие семейных связей, когда настолько невозможно просто поговорить, что проще убить отца или по крайней мере индифферентно оставить тикать время до взрыва (причем разницы между отцом и сыном почти нет; я и отец – одно). Не обязательно ощущать все сразу, достаточно отдельных деталей, чтобы понять, в Петербурге вечно снег, непогода и горестные мысли, даже летом. Кружат, кружат метели. Заносят город по самые крыши, и неважно, что этот Петербург к реальному городу не имеет никакого отношения.
Андрей Белый написал роман об определенном периоде. Причем настолько удачно попал в границу между было и будет, между русско-японской войной и войной Первой Мировой, между Первой русской революцией и революцией 1917 года. Узкий промежуток, когда шаги наступающего уже слышны и повсюду приметы времени, но еще неизвестно, что же будет. Еще впереди кровь, террор и «в белом венчике из роз». При этом роман совсем не исторический, он показывает внутреннее, человеческое, вечное. Больше, чем внешнее, политическое, социальное, временное. Петербург Андрея Белого общий и ничей. Потому и восприятие общее и ничье, отражения и пересечения. Потому, читатель, ты в книге можешь отыскать тот самый индикатор. Потому и к тебе может прийти медный всадник и превратить тебя в призрак мертвый. Моли судьбу, чтобы тебя в этот момент не оказалось дома.
Символично – мое последнее прочувствованное школьное сочинение (экзаменационные и «для галочки» не в счет) было посвящено Белому-поэту, а мое последнее сочинение для ДП-2016 – снова о Белом, но уже о прозаике.
Хорошо, что тогда, в юности, я не взялась за «Петербург». Я была слишком серьезной – увязла бы в монголизмах-символизмах, запунцовела бы при сомнительных деталях, искала бы стройности и логики или (что еще хуже) делала бы вид, что мне и без логики хорошо. Не было у меня –дцать лет назад опыта шикарных глюков от наркоза, да и информационная помойка в голове была поменьше – а, значит, глюкам пришлось бы жить впроголодь.
Сам Белый предпочитал для своего романа термин «мозговая игра» - простите, что я грубо именую его «глюком».
«Петербург» - это шикарный глюк, галлюцинация, бред воспаленного воображения. А теперь – следите за руками – перечитываем предыдущее предложение без кавычек в начале. Не о литературе, а об истории и политике зазвучало? То-то же. Вот ровно о том и роман – о попытке привить европейскость диким азиатским пространствам, об отторжении этой прививки. Всё – хором – с Пушкиным, Гоголем, Достоевским. Всё – о Петре и Медном всаднике. «Русь, куда мчишься ты?», «Где опустишь ты копыта?» и так далее. Не буду останавливаться – вы лучше меня можете разглагольствовать на тему «Восток и Запад: каков путь России?»
Тема важна, но не очень интересна. Поговорим о форме. Представьте себе автора, который может написать очень хороший, плотный, живой реализм, но … не хочет. Куски, из которых складывается роман, реалистичны настолько, что хочется вымыть руки после Липпанченко. Я чувствовала уколы серебристой щетинки Аполлона Аполлоновича. Товарищи, да я даже Анну Каренину не видела так хорошо, как Софью Петровну!
Помните, как Гоголь описал темную ночь с помощью процесса чистки сапога? А теперь представьте себе такой же уровень описания людей. Реализм с точными вкраплениями поэзии (или безумия, как угодно). Результат – вопиющая картонность героев других авторов. Результат – сложность чтения, необходимость сосредоточенности.
И что же автор делает с этими превосходными кусками? Наверняка, где-то там, в бесконечном множестве вселенных существует добротно скроенный роман о петербургской семье, о сенаторе-отце и увлекающемся новыми идеями студенте-сыне, о провокаторах и дамских салонах. Все в декорациях маскарадного 1913 года. Этакие «Отцы и дети» плюс «Братья Карамазовы», приправленные «Поэмой без героя» и всем Блоком сверху.
Но в нашем варианте вселенной по чудной картине дали молотком. И рассыпалось, полетело на пол, отразилось в тысяче осколков. Порвалось – вместе с сознанием героев, русской историей и пресловутой «времен связующей нитью». И начался уже не Блок, а поздний Мандельштам. Начались Кафка и «Улисс» - только у Кафки глюки общечеловеческие, а здесь – наши, родные, понятые мозжечком на уровне созвучий.
Если очень сильно всмотреться и избавиться от скучного «что курил автор?», то можно рассмотреть, что даже осколки раскиданы не просто так, а с умыслом. Прослеживаются мифы о Кроне/Сатурне, тема отцов и детей, тема двойников, любовных треугольников… Но, опять же, оставим это школьным сочинениям. Потому что от такого всматривания разболится голова, лучше расслабиться и лететь дальше по мозговому пространству, а темы и идеи, авось, само сложатся где-то на подкорке.
Обязательный пункт программы- «Образ Петербурга в романе «Петербург»» я тоже пропущу. Эту причудливую геометрию надо читать в подлиннике, а не в пересказе.
Роман Андрея Белого обращен не в прошлое, а в будущее. Он современен – хотя и легли между нашим и тем временем трещины, нарушены традиции, рассыпались серые кариатиды…
Принято заканчивать рецензию призывом прочитать освещаемую книгу. Давайте так – я приглашу вас в путешествие. Не на комфортабельном автобусе, а пешком, с мачете в руках – пробиваться через авторский текст, повисать над ущельями логических провалов, тонуть в болотах повторов.
Но – в награду – видеть настоящий Петербург 1913 года. Ощущать его грязь и туман на своих руках, сшибать с ног его обитателей, носиться в красном домино по его дворцам. По-моему, оно того стоит.
Флэшмоб 2012, совет от TibetanFox
Что-то необыкновенное. Первое время я не понимала, что происходит. Да и по прочтении понимаю не то чтобы совсем.
Мистика действительно околомайринковская, как и предупреждали. Но с большой поправкой на национальный колорит. У меня даже прохладное отношение к вопросу о судьбах России сменилось некоторой заинтересованностью. На протяжении всего романа чувствуется, как нагнетается перед революцией обстановка, на уровне символов обозначен выбор между Западом и Востоком и несостоятельность этого выбора, и собственный путь.
Язык головокружительно красив (хоть и очень своеобразен), текст сам по себе головокружителен. Как и духовидческий образ Петербурга, чьи формы - отнюдь не проспектно-канальная сетка, а некий эктоплазменный кисель, или даже еще эфемернее - разбитое рябью отражение. Космическая жуть врывается в повествование когда хочет.
И не обошлось без человеческого, слишком человеческого: острого момента из жизни несчастливой, взаимоотчужденной семьи. Отцу и сыну взаимное сходство внушают отвращение (это нагнетается, как революционное поветрие), взаимное различие затрудняет понимание, возвращение в семью матери, сардинница ужасного содержания...
Эта линия романа неким образом разрешается. А с судьбами непонятно.
Сегодня эта книга – экспонат литературного прошлого, для знатоков и гурманов. (Александр Солженицын)
Октябрь, 1905. Петербург. Россия уже пережила многочисленные забастовки рабочих и кровавое воскресенье, положившее начало первой русской революции, уже отгремели в Одессе выстрелы с броненосца "Потёмкин" и восстание подавлено, уже позади последнее сражение Русско-японской войны - цусимское, в котором разгромлен русский флот. В воздухе витает революция и что-то ещё. Мозговая игра. В "Петербурге" в этой игре участвуют абсолютно все герои, включая город, автора и читателя. Никакой надежды на лёгкое чтение, есть лишь безудержный вихрь размышлений, состояний, эмоций. Всё это в размытом хаосе скачущих с одного на другое мыслей и чувств. Это какой-то совершенно нереальный, чрезмерно бурный поток, который швыряет читателя, как щепку. Прибавить к этому сложный, слишком вычурный для современности язык, местами с совершенно не читабельными предложениями, и как раз получится тот самый новаторский роман начала прошлого века.
Несмотря на хаос, сюжет тут имеется, и он довольно интригующий. Сенатор Аполлон Аполлонович Аблеухов занимает важное место в политической жизни России, ни одно важное распоряжение не обходится без его визы. Он деятелен и скрупулёзен настолько, что вся жизнь в его доме подчиняется определённому раз и навсегда заведённому ритму. Даже вещи не просто разложены по конкретным местам, а всё при этом запротоколировано и вызубрено лакеем назубок. Нужен галстук - ищи северо-восток полку номер три. Сам Аполлон Аполлонович любит закрытые пространства и классические кубические формы. Беспокойство овладевало им лишь при созерцании усечённого конуса. А вот сын его, Николай Аполлонович, он другой. Встаёт поздно, почитывает Канта, ничем особенным не занимается, проникается идеями терроризма. Но есть две вещи, которые роднят отца и сына: они оба переперчивают еду и У обоих логика была окончательно развита в ущерб психике. Как водится, Николай Аполлонович влюблён. Его воображение пленила жена друга детства, Софья Лихутиня. Девица же эта... Словом, Софья Петровна запуталась: ненавидя, любила; любя, ненавидела. Вот одна завязочка сюжета.
Вторая же ведёт читателя к сардиннице. Да-да, к такой жестяной коробочке, куда на заводе кладут рыбку, и в которую террористы потом закладывают бомбу. И тут на сцену выходят ещё два персонажа: Александр Иванович Дудкин, беглый революционер и некто Липанченко. Тоже весьма нездоровые персонажи, как ни крути. Дудкин, например, о себе говорит так: Появились ещё особые любострастные чувства: знаете, ни в кого из женщин я не был влюблён: был влюблён - как бы это сказать: в отдельные части женского тела, в туалетные принадлежности, в чулки, например.
Петербург – это сон.
Носы протекали во множестве: орлиные, утиные, петушиные, зеленоватые, белые; протекало здесь и отсутствие всякого носа.
Что касается стиля романа, то это, конечно, некий бурлеск, не всегда, правда, удачный. Всё тут явно чрезмерно и как-то неровно. Например, Андрей Белый использует систему повторов, которая в орнаментальной прозе подчёркивает строгий ритм. Но автор грешит перебором. Иногда повторений так много, что сила приёма не просто слабеет, а сходит на нет. Если же говорить о мелодике конкретных фразах, иногда она слишком тяжела для восприятия, а иногда фразы столь удачны, что диву даёшься (Заплеталась невская сплетня). В романе много придуманных слов - они тоже иногда вызывают улыбку, а иногда недоумение. Общий темп - порывистость. Она тут везде: то герой вскочил, побежал, споткнулся (и это неоднократно), то мысль потекла, споткнулась, взяла новое направление и потекла дальше (тоже постоянно). Но самое для меня интересное - как автор выражает мысли в цветовой гамме. Вот это было, не побоюсь этого слова, потрясающе! Пожалуй, мне до "Петербурга" не приходилось ещё сталкиваться с таким романом-картиной, который буквально заставляет видеть краски. Он действительно похож на небольшое по размеру полотно с яркими чуть размытыми пятнами, в стиле импрессионистов, обрамленное туманами, серыми мрачными кариатидами и голыми ветками деревьев.
В целом я соглашусь с Александром Солженицыным, который говорил о книге так:
Но всё вместе создаёт впечатление большой неровности повествования: чередование удач, нелепостей, вздора, сумасшествия, безумия. Впечатление, всё же, патологии.
От себя добавлю, что патология эта однозначно обладает какой-то привлекательностью, точнее аттрактивностью - она приманивает, затягивает и не отпускает до последней страницы. Более чем достойный литературный эксперимент, и я очень рада, что с ним познакомилась.
Мозговая игра – только маска; под этою маскою совершается вторжение в мозг неизвестных нам сил.
Невский Проспект обладает разительным свойством: он состоит из пространства для циркуляции публики; нумерованные дома ограничивают его; нумерация идет в порядке домов – и поиски нужного дома весьма облегчаются. Невский Проспект, как и всякий проспект, есть публичный проспект; то есть: проспект для циркуляции публики (не воздуха, например); образующие его боковые границы дома суть – гм… да:… для публики. Невский Проспект по вечерам освещается электричеством. Днем же Невский Проспект не требует освещения.
Невский Проспект прямолинеен (говоря между нами), потому что он – европейский проспект; всякий же европейский проспект есть не просто проспект, а (как я уже сказал) проспект европейский, потому что… да…
Потому что Невский Проспект – прямолинейный проспект.
Невский Проспект – немаловажный проспект в сем не русском – столичном – граде. Прочие русские города представляют собой деревянную кучу домишек.
И разительно от них всех отличается Петербург.
Петербург, Петербург!
Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты – мучитель жестокосердый; ты – непокойный призрак; ты, бывало, года на меня нападал; бегал я на твоих ужасных проспектах и с разбега взлетал на чугунный тот мост, начинавшийся с края земного, чтоб вести в бескрайнюю даль; за Невой, в потусветной, зеленой там дали – повосстали призраки островов и домов, обольщая тщетной надеждою, что тот край есть действительность и что он – не воющая бескрайность, которая выгоняет на петербургскую улицу бледный дым облаков.
От островов тащатся непокойные тени; так рой видений повторяется, отраженный проспектами, прогоняясь в проспектах, отраженных друг в друге, как зеркало в зеркале, где и самое мгновение времени расширяется в необъятности эонов: и бредя от подъезда к подъезду, переживаешь века.
О, большой, электричеством блещущий мост!
Помню я одно роковое мгновение; чрез твои сырые перила сентябрёвскою ночью перегнулся и я: миг, – и тело мое пролетело б в туманы.
О, зеленые, кишащие бациллами воды!
Еще миг, обернули б вы и меня в свою тень. Непокойная тень, сохраняя вид обывателя, двусмысленно замаячила б в сквозняке сырого канальца; за своими плечами прохожий бы видел: котелок, трость, пальто, уши, нос и усы…
Дверь защелкнуть на ключ и уйти с головой в одеяло. Быть страусом.
Иногда же чуждое "вдруг" поглядит на тебя из-за плеч собеседника, пожелая снюхаться с "вдруг" твоим собственным. Меж тобою и собеседником что-то такое произойдёт, отчего ты вдруг запорхаешь глазами, собеседник же станет суше. Он чего-то потом тебе во всю жизнь не простит.