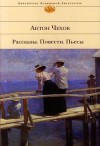Рецензии на книгу «Остров Сахалин» Антон Чехов
Я немного не ожидала, что будет такое сухое повествование, избаловали меня современные путевые записки и книги путешествия. Впрочем, у Чехова была крайне серьезная миссия, с которой он справился замечательно. Очень яркие перед глазами вставали сцены, как диалогов, так и путешествий. Очень серьезный анализ ситуации был проведен автором, возмущает и обескураживает складывающаяся ситуация на Сахалине и неизменность русских нравов. Больше всего запомнились двойные стандарты, когда низы жалуются на несъедобную еду, а при проверках кормят чиновников совсем другим. В итоге вторые не понимают, на что жалуются первые. То же и с земледелием. Сами же врали, тащили самые огромные клубни и гигантские колосья чиновникам, потом помирали с голоду, потому что нет урожая там, и не может быть. Совершенная не способность устроится, учится чему-нибудь, все на отвали и тяп ляп, лишь бы было, лишь бы не трогали. Решения принимают люди, которые понятия не имеют, что вообще решают. С переписью населения Чехов очень хитро придумал, получил доступ в любой дом и к сотням человеческих историй. Очень важная книга, исторически важная. Но очень специфическая, и сложная для восприятия. Не все, как оказалось, я поняла на должном уровне, есть вещи, которые мне расшифровали на нашей встрече пермского книжного клуба.
За наводку я благодарна двум авторам: Харуки Мураками, который в своем романе 1Q84 цитировал интересные места об аборигенах Сахалина - гиляках. И Галковскому, который в Бесконечном тупике обложил Чехова с ног до головы невоспроизводимой шизофренической критикой.
Реальность превзошла ожидания. Без всяких скидок на время создания, эта книга - полноценное криминологическое исследование притом в отличном художественном изложении. Просто не верится в объем проделанной Чеховым работы. Изучить сотни статей и книг, добрать до острова, обойти там почти каждую тюрьму, избу, барак, рудник, пешком продираясь через сахалинские дебри. Учитывая то, что, видимо, эта книга Чехова и погубила, она заслуживает большого внимания. (И у ж точно большего, чем она получила у нас на сайте).
Но понятно, чем она не удобна. Книга суховата, тут много цифр, и пусть за цифрами кровь, в том числе, авторская, к такому изложению нужна привычка. Здесь нет каторжной романтики, авантюрных побегов, больших страстей и благородных подвигов. Книга не патриотична, но и громких обличений в ней нет. Чехов лишь констатирует факты, а они не льстят. Он не трафит общественности, государству, он вторгается в епархию ученых, и вот член-корреспондент АН СССР и к.и.н., доцент в предисловии из 1980 года снисходительно отвечают ему, мол, не понял, не оценил, не достаточно источников поднял, и вообще, у нас-то теперь в СССР сплошная сказка земная.
В общем-то, типичная картина для криминологии.
Моменты, которые мне показались особенно интересными.
- При создании колонии предполагалась исправительная цель. Бывшие каторжане начнут строить дома, засевать поля, труд их исправит, да они еще и денег государству заработают. Как можно догадаться, идея не сработала. Место было плохо изучено, и на какую-нибудь заболоченную точку, которая смогла бы прокормить от силы человек 30 начальство сажало 200. Причем, из ссыльных хорошо, если половина имела какое-то понятие о сельском хозяйстве, строительстве, рыбалке или охоте. Инструментов и припасов всегда не хватало. Одновременно строить и пахать было невозможно. И во многих деревнях в итоге Чехов видел толпу оборванных мужчин трудоспособного возраста, которые, набившись в избу, обставленную одной грязью, сидели, голодали и ничего больше не делали.
- Рудники, несмотря на свою меметичность, далеко не самый тяжелый труд на Сахалинской каторге. Самое тяжелое - таскать из леса бревна зимой. Ну и вообще в любую погоду.
- А самое тяжелое в рудниках - не физического плана. Самое тяжелое это несправедливость, к которой особенно чувствительны заключенные. Те из них, кто при деньгах, имели возможность нанять на свое место других каторжных, а также и свободных поселенцев, что особенно нелепо. Представьте, какой-нибудь шулер или сутенер, или просто тот, кто больше наворовал на материке, сидит и пьет чай с сахаром в компании надзирателей, а уголь таскает честно отсидевший бедолага.
- Жизнь поселенцев вообще порой тяжелее, чем жизнь каторжан. Например, каторжанки получали пособие, а свободные жены каторжников, приехавшие за ними, нет. В итоге, скажем, убив мужа на Сахалине, жена становилась каторжанкой и ее условия жизни могли стать лучше.
- Положение женщин на Сахалине - особо отвратительная страница истории. Для женщин-преступниц с самого начала не было предусмотрено варианта исправительных работ. Измученные этапом женщины прибывали на остров никакие, и тут их тепленькими разбирали. Писарям и надзирателям получше, помоложе, зажиточным поселенцам - поплоше. Совсем уж не годные для использования в хозяйстве и постели - так, куда попало... Тут вам не "Голодные игры". Причем, ссыльные не любили, когда женщин завозили зимой: работ для них нет, а кормить приходится.
- Чехов нашел только три случая, когда вслед за женами на каторгу прибыли мужья. А вот свободные женщины ехали массово. В основном, по двум причинам: из любви и по обману мужа. Муж пишет жене, как он прекрасно устроился, у него тут и дом, и пашня. Измученная путешествием жена видит, что это неправда, но сил и средств вернуться на материк уже нет, да и муж быстро пропивает, проигрывает, продает ее добро, может и жену саму, и детскую одежду.
- Несмотря на необыкновенное распространение проституции, женских болезней, и вообще назовем это прямо - рабства, того, чем пугали в Чеховские времена - насильной выдачи замуж - практически не встречалось. По простой формальной причине. Чтобы венчаться нужно сначала официально развестись, а в те времена, да еще с Сахалина, мужчине получить развод было очень сложно.
- Так что даже удачные пары иногда до старости были вынуждены жить "во грехе". А бывали и удачные. Если убийца мужа, жертва домашнего деспотизма, скажем, случайно встречала на Сахалине хозяина, который был добрее и не обижал ее.
- На Сахалине была неплохая рождаемость. От скуки, в основном.
- Местные жители, гиляки, были почти неспособны к обману. Даже пытаясь поднять цену за товар, обычно переглядывались друг с другом, как дети, выдавая свой замысел. А когда слышали чужую ложь, хватались за животы и кривились, словно от боли.
- Понятно, что на положении гиляков и айнов устройство на Сахалине каторги и колонии сказалось скверно.
- Один из способов заработка на каторге: подбить новичков сбежать, а потом сдать властям за 3 рубля штука. За бегство полагались плети. Телесные наказания были распространены даже у заботливых начальников, в том числе было такое странное наказание как "приковывание к тачке". То есть человек потом так и жил с этой тачкой.
Ну и это далеко не все, что можно узнать из книги.
Главный мотив своего путешествия Чехов привел в обращении к Суворину:
"Сахалин может быть ненужным и неинтересным только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей и не тратит на него миллионов... Жалею, что я не сентиментален, а то я сказал бы, что в места подобные Сахалину мы должны ездить на поклонение, как турки ездят в Мекку... Из книг, которые я прочел и читаю, видно, что мы сгноили в тюрьмах миллионы людей, сгноили зря, без рассуждения, варварски..."
Авторы предисловия, о которых я уже говорила, основную часть своей работы посвятили положению политических заключенных Сахалина. Чехову не разрешили с ними общаться, и советские исследователи восполняли этот пробел, очень важный для них. И тут работа Чехова перекликается с книгой Приемлемое количество преступлений Нильса Кристи, которую я сейчас читаю. Кристи пишет, что, возможно, если бы мы, в первую очередь решились сократить число наказаний по общеуголовным делам, сократилось бы и число политических узников. Но правозащитники обычно обращают повышенное внимание на диссидентов, часто забывая остальную массу несправедливо страдающих людей. Думаю, Чехов бы согласился с Кристи. И, к сожалению, обе эти книги все еще крайне актуальны.
Ну что тебе сказать про Сахалин? (М. Танич — Я. Френкель)
Из Сибири (очерк)
Совсем коротенькое произведение, кажется, 44 с. в бумажном исчислении. Написано по личным впечатлениям, полученным в пути автора на остров Сахалин. Однако записки касаются лишь части многотысячного пути, только проезда по Западной Сибири и в большей части по Западно-Сибирской низменности. И основными содержательными и эмоциональными компонентами этого очерка являются особенности дорожные, нюансы всегдашней российской беды №2. От этих неустроенностей и от созерцания довольно унылого пейзажа и настроение автора соответствующее. Которым он щедро делится с читателем.
Остров Сахалин (очерк)
Когда я был ещё довольно молодым и вовсю учился в некоей специфической Академии, то во время изучения курса лекций "История полиции и тюрем царской России" (да-да, был такой) в списке литературы, рекомендованной для дополнительного изучения темы, вместе с достоевскими "Записками из мёртвого дома" стояла рядышком и эта книга. "Записки..." были с интересом прочитаны, а вот до "Острова Сахалин" руки не дотянулись — то ли в библиотеке не было бумажного экземпляра, то ли просто забил на это дело, теперь уже и не вспомню. Но, видимо, должок крепко засел в памяти, потому что едва речь зашла о том, что бы этакое прочитать у Чехова, как мой речевой аппарат самостоятельно выпалил "Остров Сахалин" и мне осталось только подчиниться.
Книга имеет несколько совершенно чётких определяющих и характеризующих признаков.
Это дневники писателя. Литературно обработанные и изложенные им в соответствии с совершенно определённым внутренним ритмом, разбитые на смысловые главы, но всё-таки именно дневники. Записи делались автором во время его поездки на каторжный остров Сахалин и имели чёткую конкретную цель — быть опубликованными.
Это сборник совершенно конкретных структурированных по определённым признакам фактических сведений об острове и его населении на момент пребывания там Чехова. Во время поездки Чехов лично производил опросы ссыльно-каторжных и службу надзора, и все интересующие его сведения по каждому (!) опрошенному заносил в специальную разработанную им самим персональную статистическую карточку. Причём основную работу по опросу всего населения острова Чехов осуществлял самостоятельно, лишь частично доверив заполнение незначительно количества своих карточек другим людям.
Т.е. мы уверенно можем говорить о совершенно научном подходе писателя Чехова к изучению им социально-демографического положения на этом необычном острове.
Эта книга содержит в себе целый ряд замечательных по точности и полноте личных наблюдений Чехова над совершенно разными людьми, с которыми он сталкивался во время своей поездки. Тут вам и высшие государственные чиновники (начиная от губернатора и спускаясь вниз по иерархической лестнице), тут же многочисленные чиновники, осуществляющие надзор над каторжными и ссыльными, тут некоторые личности из местного населения, и конечно же, довольно много наблюдений непосредственно за каторжанами — всё это с фамилиями и именами, с кличками и прозвищами.
Помимо всех этих наблюдений значительную по важности часть очерка составляют прогнозы и рассуждения Чехова о вариантах развития ситуации в дальнейшем: это касается как судеб отдельных конкретных людей, так и целых малых народов (айно, нивхи и гольды). И конечно же это мысли и высказывания Чехова о сложившейся форме ссыльно-каторжной жизни на острове и о необходимости перемен в отношении исправительной политики и практики в России.
И значительный интерес представляет чтение многочисленного и объёмного приложения, в котором разъясняются смысловые ссылки и отдельные моменты в тексте очерка. В электронном виде всё это читать не очень удобно (слишком много этих ссылок в тексте очерка и просто устанешь туда-сюда перекидывать себя), а вот в бумажной книге наверняка будет интересно сразу получить разъяснение по мере чтения того или иного эпизода.
В итоге эта не особо интересная с худлитовской точки зрения книга наполнена интересом совсем другого толка. Мы как будто изучаем разносторонний портрет. Составленный из сотен портретиков разных человеческих лиц-судеб. С портретиками местных островных сюжетно-жанровых картинок-зарисовок. И с своеобразным портретом ссыльно-каторжной системы того времени. Вот такое художество получилось у Антона Павловича...
Антону Павловичу большая благодарность за проделанную работу! Писатель хорошо потрудился, собирал материал, цифры, факты. Чехов изменил своей привычной манере и написал действительно важную книгу с геоисторической точки зрения, а не с художественно-литературной. Информация подана просто и доступно, что очень важно для правильного восприятия текста. Считаю, что, прочитав книгу, потратила время с большой пользой. На Сахалин ни ногой, хотя природа там красивая!
Смотришь сейчас на фотографии современного Сахалина, и не веришь, что было совсем иначе. А ещё я дала себе установку- как только начинаю ныть, что мне у себя в Краснодарском крае холодно, сразу вспоминать о Чеховском Сахалине, о тех местах, где никогда не тает снег и о жизни людей в тех краях…
Эта книга наводит ужас и гнетущую тоску. Но не отпускает. Чудесный язык Чехова смог оживить сухую статистику. О, эта красивая сдержанность! Я читала и удивлялась, мне было жаль людей, а особенно детей. Конечно, многие далеко были не ангелами в своей нормальной жизни, но Чехов ведь и говорит – побоями, кандалами не исправишь человека. В лучшем случае он озлобится ещё больше. И ведь действительно- никто из ссыльных не пришёл к вере, никто не очистился духовно. Священникам перестали верить, даже если те приходили искренне. Тот остров Сахалин даже не прекрасен по своей природе. Антон Павлович пытается нам рассказать о природе своим прекрасным языком, но, увы, всё равно за каждой травинкой, за каждым листочком чувствуется какая-то безнадёга. Сахалин уже после высадки встречает своих гостей неласково.
«Море на вид холодное, мутное, ревет, и высокие седые волны бьются о песок, как бы желая сказать в отчаянии: «Боже, зачем ты нас создал?» Это уже великий, или Тихий, океан. На этом берегу Найбучи слышно, как по стройке стучат топорами каторжные, а на том берегу, далеком, воображаемом, Америка. Налево видны в тумане сахалинские мысы… а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду. Тут, на берегу, овладевают не мысли, а именно думы; жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев».
И убежать можно, только куда бежать. Многие так и пропали в глухих лесах тайги. Кто замёрз, кого разорвал медведь, кто был убит не за грош своим же, таким же как он заключённым… И бежать некуда и в тюрьме сидеть нет уже сил. Безнадёга.
Жизнь вольных поселенцев тоже не разнообразна. Климатические условия не всегда позволяют собрать хороший урожай. Голод, безделье, разврат. И опять мне бесконечно жаль детей, уже обреченных. Они рождаются обреченными на такую жизнь. И только немногие могут уехать.
Чехов ко всем относится одинаково. Для него что заключённый, что надзиратель тюрьмы, что чиновник- прежде всего человек. Похоже, что Антон Павлович болеет за каждого душой, что удары плетью по спине заключённого отражаются и на его душе.
Лейтмотив всего произведения – тема ада. Адом окутан весь Сахалин. И хочется найти что-то светлое, что-то такое, что на минуту вызовет трепет в душе. И это есть.
«…самые полезные, самые нужные и самые приятные люди на Сахалине – это дети, и сами ссыльные хорошо понимают это и дорого ценят их. В огрубевшую, нравственно истасканную сахалинскую семью они вносят элемент нежности, чистоты, кротости, радости. Несмотря на свою непорочность, они больше всего на свете любят свою порочную мать и разбойника отца, и если ссыльного, отвыкшего в тюрьме от ласки, трогает ласковость собаки, то какую цену должна иметь для него любовь ребенка!» И далее «прибавлю, что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения».
. Детей на Сахалине рожают часто. Чехов объясняет этот факт тем, что населению в основном нечем заняться. Работы нет, и чем занять себя- хобби- тоже нет. И не пишет Антон Павлович ни о ком талантливом, кто живёт на Сахалине. Не встретил он там ни самородка-художника, ни поэта.
Отдельно хочу сказать о местном населении острова. Было очень интересно познакомиться с самобытным населением айно и гирляками. Тоже, на мой взгляд, ничего хорошего и светлого в их жизни нет, но они всё время так жили, сначала их теснили другие племена, потом их начали теснить русские, когда начали осваивать Сахалин. Своеобразные народы, дикие. Одно то, что никакого уважения к женщинам у них нет, уже не даёт возможности полюбить их. И это отталкивает больше, чем то, что они никогда не умываются…Хотя, уважения к женщине на Сахалине нет ни у кого. Взгляд на законных жен у сахалинских начальников такой:
«не то она человек, хозяйка, не то существо, стоящее даже ниже домашнего животного».
. Неестественность семейного устройства наводит автора на мысли о том что
« в атмосфере, испорченной тюрьмою и неволей, семья давно уже сгнила, а на месте ее выросло что-то другое»
.
Но, прежде всего, Чехов - врач. И врач с большой буквы. Поэтому на амбулаторном приёме он к каждому больному относился с чуткостью профессионала. Как поп Семён- слух о котором прошел по всей Сибири:
«О каторжных он судил так: Для создателя мира мы все равны».
Такое же отношение к больным-заключённым было и у Чехова.
Сноски и примечания в конце книги – отдельное произведение, на мой взгляд. Чехов пытается дополнить своё повествование, как будто что-то забыл, и вот вспомнил что-то важное, что обязательно надо сказать.
Несмотря на маленький объём книги, я читала её очень долго. Что-то не давало меня проглотить всю целиком за один вечер. Наверное, так было надо. Надо было осмыслить каждую главу, каждую сносочку… Надо было всё это пережить. Надо было принимать информацию маленькими дозами что бы хоть как-то, что бы хоть что-то найти в этом крае, имя которому безнадёга.
Эту книгу Антона Павловича я прочитала после упоминания ее в биографии о писателе , в книге Зайцева " Чехов" .
Книга - отчет о том, как великий( не побоюсь этого слова) русский писатель путешествовал по Сахалину. Скорее всего она похожа на дневник с отчетом, чем на художественную книгу, но есть одно "но". Это природа.. Этот суровый край предстает перед глазами читателя, так живописно описывает автор, будто наяву видишь мерзлую землю, на которой растет только картофель, ощущаещь на своей коже промозглый ветер с океана. И все это наряду с описаниями выживания на этой планете, да , именно планета, а не остров. Ощущение того создается, что это другая планета, а не суровая Россия. Планета на которой надо выжить, на которой живут по своим моральным и земным законам. Да, такова реальность острова Сахалин. Этим островом наверно пугали детей ... Но за преступления против человека должны понести кару преступники, кара эта ужасна.
В этом произведении Антон Павлович упоминает рассказ Короленко " Соколинец", его я тоже прочитала .. Он как бы дополняет " Остров Сахалин".
Вот она, наша несбывшаяся Австралия!
Человек свободной профессии, известный литератор путешествует по дальним восточным колониям своей страны. Он плывет по огромной реке к Великому океану на пароходе с полушведским экипажем. По берегам небольшие очаги цивилизации и туземные деревушки. Нет, это не Киплинг, не Джозеф Конрад и даже не Стивенсон. Это Антон Павлович Чехов.
Историки достаточно давно стали изучать «воображаемую географию», тот набор представлений, которые формируются о различных объектах благодаря человеческому творчеству. Классическая работа здесь – «Изобретая Восточную Европу» Ларри Вульфа, которая рассказывает как многочисленные дипломаты и путешественники в XVIII веке придумали разделение Европы на две части, развитую и неразвитую. А потом, на основе этих представлений, уже местные политики проводили в жизнь ту или иную программу преобразований. Книга Чехова явно относится к тому же жанру – путевые заметки о дальнем крае, которые формируют у читателя представление об этой земле.
Что же мы видим? Наша Австралия, большой остров, на котором планируется создать сельскохозяйственную колонию силами каторжных и поселенцев. Это не Россия, Россия где-то далеко, ведь и Сибирь воспринимается не как Россия (на эту тему есть хорошая книга «Сибирь в составе Российской империи»). К моменту поездки Чехова попытка колонизации реализуется уже почти тридцать лет. Результаты противоречивые, такие, каких можно было и ожидать при чисто маниловских подходах к планированию, которые демонстрирует местное и центральное правительство. Тем не менее колония существует, новые поселения основываются, есть крепкие хозяйства и даже метеорологические станции.
Чехов очень скрупулезен. Для того, чтобы его выводы о проблемах и перспективах колонизации и исправления каторжных были максимально обоснованными, он провел собственноручно перепись во многих поселениях острова (этот опыт пригодился ему для участия в переписи 1897 года). Перед нами примечательный срез общества уголовников, в том числе тех, о которых писали все газеты своего времени (и даже Сонька Золотая ручка).
Любопытно, как мало администрации известно об «инородцах», как гиляках (нивхах), так и айнах. Они где-то сбоку, они не входят в некое общее население Сахалина, их жизнь загадочна и, по сути, неизвестна. Когда средства связи были в столь зачаточном состоянии и чиновников было столь мало, государство могло себе позволить не знать что-то о своих подданных.
Японцы пока на периферии, их 15 лет как прогнали с южной части острова (и еще 15 лет до того, как они эту самую южную часть вернут). Просто вежливые и предприимчивые соседи, не более того.
Общий настрой книги отнюдь не пессимистический. Несмотря на проблемы в быту и неполадки в машине управления, Чехов видит будущее острова в рыбных промыслах и заселении его вольными людьми после прокладки Транссиба.
И да, у меня сложилось твердое ощущение, что Чехов был очень хорошим человеком.
«Остров Сахалин» – произведение не для слабонервных. Оно вгоняет в тоску и тревожит своими страшными описаниями. В нем рассказывается о людях, которые живут в невыносимых условиях. Даже не живут, а пытаются выжить. Основное население острова – это каторжные и ссыльные. Все они прибыли на Сахалин не по своей воле. После того, как заключенные отбывают свой срок, большинство остается жить здесь же, ибо нет уже сил и здоровья начинать жизнь заново. Автор описывает все лишь в негативном ключе. Поэтому, читать было тяжело. Безусловно должно быть что-то хорошее. Не бывает так, что все плохо, как не бывает так, что все хорошо.
В данной книге Антон Чехов для меня открылся с новой стороны. До этого, знал его как драматурга и прозаика. Здесь же, он предстает нам как исследователь. При этом, в книге хорошо раскрываются и человеческие качества писателя. Он удивительно добрый и сопереживающий. Когда исследование Чехова вышло в печать, многие ужаснулись, так как «каторжная Россия» для читающей публики была почти неизвестна. Впоследствии, благодаря ажиотажу вокруг книги, условия прибывания заключенных на Сахалине значительно облегчили, а значит труды писателя не прошли даром.
Первый урок «ОС»: как говорить о боли.
Второй урок «ОС»: как написанное вызывает общественные реформы.
Третий урок «ОС»: как писать о власти не пресмыкаясь и не майданя.
Для чего это вообще нужно было Чехову? Успешному, себе и всем уже всё доказавшему, ехать на край света. Ехал на свои, жил на свои. Не был ангажированным. Так и ехать-то пришлось как! Транссиб ещё только обсуждался. Мало кто знает, но главные возражения по Транссибу были от…Министерства внутренних дел! Угадайте с трех раз о причинах. Крамола быстро распространяться будет! О «вечно русском» поговорим ниже.
В ту пору о «слезе ребенка» было известно повсеместно. От Владивостока до Сан-Франциско, но не через Тихий океан, а по русскому, особому пути. По ходу солнца. А поскольку с «нравственным чувством» у классиков было всегда хорошо, то и собрался АП в путь-дорогу, ведомый этим самым нравственным чувством. Уезжал успешным литератором. Вернулся русской совестью.
«Сахалин» - достаточно объемное произведение. Но чувство чеховской лаконичности, возникающее с самого начала, остается до самого конца. Удивительно: много текста, много слов, много фраз и предложений, много статистики, - почему всё так лаконично? Возьмем для примера предложение на 4 строки и попробуем убрать хоть одно «лишнее» слово (помните, как у Формана в «Амадеусе» Сальери предлагает Моцарцу убрать «лишние» ноты?): «По-видимому, у японцев, после того как они познакомились с островом, возникла мысль о колонии, быть может даже сельскохозяйственной, но попытки в этом направлении, если они были, могли повести только к разочарованию, так как работники из японцев, по словам инж. (так в тексте) Лопатина, переносили с трудом или вовсе не могли выносить зимы».
Но чеховский текст почти предельно информативен. АП проводит, по собственной инициативе, перепись всего каторжного населения. Разработанные самим АП карточки для переписи просты и лаконичны (!), но зафиксировали всё – и цифирь (сколько, кого, чего), и качество «людского материала». Во многом текст «Сахалина» как бы расшифровка впервые в истории русской колонизации острова проведенной переписи (например, очень много места посвящено семейным отношениям, браку, отношениям «свободным» между мужчинами и женщинами).
Ещё два слова о переписи, точнее, о взаимоотношениях Чехова с властью. Никаких специальных разрешений у писателя не было, но генерал-губернатор Приамурского края барон А.Н. Корф дал карт-бланш на любые действия АП на Сахалине: любые посещения, доступ к любым документам, разговор с любыми людьми. Кроме политических, числа коих было 40, однако, по словам самого АП, он виделся со всеми. Чехов пишет о власти, а точнее, о конкретных людях во власти, предельно объективно, совершенно четко разделяя личные качества чиновников и пороки самой каторжной системы. Собственно, он не изменяет своим принципам: по должности – чиновник, по сути – честный человек. Так он и пишет. Бывает и иначе: по должности – чинуша и по сути – гниль. Так и пишет.
Конкретики в «Сахалине» - не перечесть. Но хотелось бы о вечном… Начну с широко известного сегодня…майдана. С прописной буквы.
Что такое майдан на Сахалине в ту пору? Не догадаетесь ни в жись! Цитирую: «Майдан – это игорный дом, маленькое Монте-Карло, развивающее в арестанте заразительную страсть к штоссу и другим азартным играм». Далее: «Арестант, имеющий и любящий деньги и пришедший из-за них на каторгу, кулак, скопидом и мошенник, берет на откуп у товарищей-каторжных право монопольной торговли в казарме, и если место бойкое и многолюдное, то арендная плата, поступающая в пользу арестантов, может простираться даже до нескольких сотен рублей в год». Кто такой майданщик? «Майданщик, то есть хозяин майдана, официально называется парашечником, так как берет на себя обязанность выносить из камер параши, если они есть, и следить за чистотою».
Но не только это узнаваемо на страницах «Сахалина».
Как насчет частно-государственного партнерства? Да легко! Частная компания «Сахалин», г.Санкт-Петербург, разумеется, заключила договор с властью на разработку дуйских угольных копей. Угадайте с трех раз по поводу одностороннего исполнения и, соответственно, одностороннего неисполнения своих обязательств. Кто – исполняет, вопреки здравому смыслу и финансовой целесообразности, а кто – не исполняет данный договор? Вот именно, как и сейчас: казна платит Обществу с неограниченной безответственностью «Сахалин» всё, что только можно себе представить. А в ответ.. а в ответ «неисполнение» или «ненадлежащее исполнение» своих обязательств со стороны эффективного собственника!
А ещё есть (был) и свой Чикатило-каторжанин с 60-ю загубленными им душами.
А ещё был туннель, который построили без инженерной подготовки (!!!), получившийся в результате кривым и непригодным для эксплуатации. И получилось как всегда: «На этом туннеле превосходно сказалась склонность русского человека тратить последние средства на всякого рода выкрутасы, когда не удовлетворены самые насущные потребности. Рыли туннель, заведующие работами катались по рельсам в вагоне с надписью «Александровск-Пристань», а каторжные в это время жили в грязных, сырых юртах, потому что для постройки казарм не хватало людей».
Настоятельно рекомендую всем, кому по-настоящему интересна русская колонизация восточных земель, изучить VIII часть «Сахалина», где по-чеховски лаконично, но абсолютно содержательно, на огромном количестве примеров, автор говорит о колонизации Сахалина русскими людьми. На мой взгляд, эта часть – вообще центральная в произведении. Все многочисленные примеры, описания, наблюдения, размышления, - всё это обобщено в этой части книги, являющейся наиболее академичной, но академичной по-чеховски, яркой, убедительной.
Упрощенный, по-большевицки, взгляд на царскую каторгу как дубинноголовый беспросветный мрак, не отражает сложностей каторжной системы со своими «Положениями», регламентирующими, например, количество рабочих часов в неделю; со своими «Уложениями» по санитарным нормам содержания каторжан; со своей пусть неповоротливой, но системой материальных выплат, по сути – социальных пособий, которых было не так мало. Читать это, как минимум, чрезвычайно интересно!
Но, разумеется, каторга – есть каторга. Это – максимальная степень несвободы. Это – тяжелые природные условия. Это – повторюсь, неразворотливость государственной казенной машины, когда, например, срок закончился в апреле, а объявляют каторжанину об этом в…октябре! Чехов пишет: «…а кругом ни одной живой души, ни птицы, ни мухи, и кажется непонятным, для кого здесь ревут волны, кто их слушает здесь по ночам, что им нужно и, наконец, для кого они будут реветь, когда я уйду. Тут, на берегу, овладевают не мысли, а именно думы; жутко и в то же время хочется без конца стоять, смотреть на однообразное движение волн и слушать их грозный рев». Это – край земли, дальше идти некуда! Тоска и жуть. То поколение русских людей, отбывавших каторгу во времена Антона Павловича, к сожалению, не было последним для русских людей, для россиян.
Хоть и далекая та земля, «но страшно нашенская». Да будет так!
Книга – замечательная, к заинтересованному прочтению. Из подборки «100 книг, которые необходимо прочесть прежде, чем…»
Не "Остров Крым"
Даже в пекле надежда заводится,
Если в адские вхожа края
Матерь Божия, Богородица,
Непорочная дева моя...И глядя, как кричит и колотится
Оголтелое это зверье,
Я скажу: Ты права, Богородица,
Да прославится имя Твое.
Домбровский.
Не помню, где прочла, что за каждым литератором стоит призрачная отметка, которую опытный издательский глаз четко сканирует - цифра, означающая количество страниц его книг. Один идеально укладывается в триста, для другого предпочтительнее сто пятьдесят, третьему потребно не меньше семи сотен, а четвертому вовсе тысяча. Чеховский формат от двух до пяти, в коротких рассказах он гениален, я могу погонный километр панегириков раскатать, но незачем, их и без меня все знают. Пьесы его вовсе не так хороши; то есть, маленькие комедийные милы, не то с драмами: все эти люди, льющие бестолковые слезы над загубленной жизнью, рвущиеся переменить судьбу, свою и мира, желающие трудиться, а в итоге забывшие старика в заколоченном доме, как по мне, ужасны. Ну ладно-ладно, про Тригорина хорошо и вообще, эти характеристики отражают в большей степени мое подростковое отношение к Чехову, когда не могла по определению оценить его терпкой унылой горечи, пьесы недавно перечитывала, они скручивают. Впрочем, на театре все равно невыносимы.
К чему органически неспособна переменить отношения – это к крупной прозе Антона Павловича. Ну нет же, нет человеческих сил пережить «Степь», «Дом с мезонином», «Ионыча». И я ни за что не взяла бы «Остров Сахалин», если бы не одноименный роман Эдуарда Веркина, которого ждала два месяца. Читаю теперь, замирая от счастья, но здесь не о нем. Об «Острове Сахалине» Веркина говорят, как об оммаже чеховскому, я хочу понимать про него все и берусь за труд Чехова о вытянутом с юга на север, формой напоминающем стерлядь, острове, который на обложках обеих книг. Да, я его прочла. Нет, это на сотую часть не так интересно, как короткие рассказы, драмы и даже повести. Но да, это невероятная книга. И мне теперь ясны корни унылого чеховского человеконенавистничества, равно как и его безоценочной отстраненности. И еще мне теперь понятно, отчего Чехов подлинно велик. С точки зрения занимательности книга нехороша вовсе, больше того – нечитаема, но этим путешествием он напоил свой талант кровью сердца. Всякий, в кого положен дар, знает о необходимости приносить ему жертвы: один закармливает пирожными, другой приносит на алтарь пятизвездочный коньяк, сушеные мухоморы, пейотль; третий парную печенку врага. Чехов свои ум и сердце, и не будь в его творческой биографии «Острова Сахалина», со всем очарованием своих коротких рассказов, мог бы остаться писателем вроде Амфитеатрова.
Эка невидаль, ну отправился образованный барин взглянуть на жизнь каторжных «для впечатлений», что его за это в разряд почетных святых возводить? Н-ну, люди по-разному едут, да и в разные места, кстати. Чехов, к своим тридцати, был знаменит и востребован, весьма недурно зарабатывал и пребывал в статусе модного литератора. Переводя на язык и реалии нашего времени, подписчиков в Инстаграмме и Твиттере у него был бы миллион. С соответствующим количеством лайков за каждый пост. Добавьте к этому внешнюю красоту, высокий рост, медицинское образование (да-да, люди в большинстве млеют от медиков). Для впечатлений можно было поехать в Париж или надувать щеки в президиумах, он отправился на Сахалин. У человека современного, далекого от реалий той жизни и знающего о Сахалине по видовому фильму о красотах острова да по вялотекущим боданиям за него с Японией (#япошкамнипочемнеотдадим), может создаться мнение, что Сахалин - вторые Сочи, солнце светит, но не очень. Так вот, это превратное впечатление. Сахалин – преддверие ада. Во всяком случае, был таковым в 1890.
Слушая, была уверена, что речь об инспекторской поездке, о любой разновидности визита по долгу службы, ставящей человека перед необходимостью находиться в месте, где он не хочет быть и выполнять неудобные обязанности. Потому что нельзя ведь по доброй воле отправиться на край света, в гиблое место, из которого все, пребывающие там, мечтают выбраться; ходить по тюрьмам, общаться с отребьем. жить несколько месяцев в курных избах, осаждаемых полчищами насекомых. Без привычных удобств, без нормального общения; в грязь, склизь, вонь, смрад. И однако, это так. Он поехал, изрядно удивив решением друзей; за время своего пребывания на острове познакомился с бытом и обычаями, побывал в городах и поселках, много говорил с людьми, провел перепись населения, делал заметки.
Из тех впечатлений после и выросла книга о Сахалине. Невыносимо больная той обыденностью, с которой рассказывается о происходящем. хотя сдержанная отстраненность констатации с обилием статистических выкладок (цифры-цифры-цифры, на всем протяжении) единственно, пожалуй, возможный тон для рассказа о таком. В том, что описывает Чехов, нет ни ухарства криминальных романов,
ни интонации бывалого, как в "Москве и москвичах" Гиляровского и достоевский надрыв в сочетании с пристальным вниманием к маргинальности. отсутствует напрочь. Это почти внимание биолога к материалу, с которым приходится работать. Без оценок, без заламывания рук и трагического вопрошания "Доколе?!" И оттого ты, читатель, можешь воспринимать эту книгу тотальной несвободы.
Я говорила прежде, что книга напрочь лишена занимательности. Разрозненные рассказы каторжан, которые просочились в нее для иллюстрации, фиксируются с индифферентностью пишущей машинки. Заметки социолога, исследующего поведение во фрейме. Думаю, для прикладной и теоретической социологии, труд актуален и по сей день. А еще для психологии, медицины, биологии, экологии, мелиорации, этнографии. Думаю, список можно продолжить, это только навскидку. Но главное в том, что положение дел после публикации "Острова Сахалина" не могло не начать изменяться. Пусть микронно, каплями, крошками, но в том, что сегодняшний Сахалин не имеет ничего общего с Сахалином, описанным Чеховым (и сегодняшняя пенитенциарная система) немалая заслуга этой книги.
И в том. чем стал Антон Павлович для русской и мировой культуры.