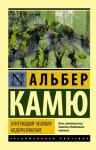В эту книгу вошли два произведения Камю, совершенно разные по жанру, но в равной степени значимые как для его творчества, так и для французского экзистенциализма в целом. Что может объединять эссе, написанное на стыке литературоведения и философии, и пьесу, являющуюся современной трагедией рока? Одна из главных идей Камю, положенная им в основу его писательской и философской экзистенциалистской концепции, — идея бунта. Бунта, пусть трижды обреченного на неудачу, но побуждающего человека,...
Добродетель умирает, чтобы тут же возродиться в еще более грозном обличье. И вопиет на всех перекрестках о своем неумолимом милосердии, о той любви к дальнему, что сделала посмешище из современного гуманизма. В своей неумолимости добродетель эта способна теперь производить только разрушения.
Страх сковывает Европу, населенную призраками да машинами. В промежутке между двумя кровопролитными войнами в глубине подземелий возводятся эшафоты. Палачи в обличье гуманистов в молчании справляют там свой новый культ. Чей вопль их потревожит?
В древние времена кровавое убийство вызывало, по меньшей мере, священный ужас, освящавший, таким образом, цену жизни. А в нашу эпоху, напротив, приговор справедлив именно тогда, когда наводит на мысль о его недостаточной кровавости.
Кровь сделалась незримой, она уже не хлещет прямо в лицо нашим фарисеям.
Нигилизм дошел до такой крайности, когда слепое и яростное убийство кажется пустяком, а тупой преступник - сущей овечкой в сравнении с интеллигентными палачами.
Убив Авеля, Каин бежит в пустыню. А когда убийц становится много, в пустыне оказывается все их скопище, живущее в скученности, которая куда хуже одиночества.
Нанося удар, бунтовщик раскалывает мир надвое. Восставший во имя тождества людей, он приносит его в жертву, освящая рознь пролитой им кровью.
Несправедливость отвратительна для бунтаря не потому, что она противоречит вечной идее справедливости, неизвестно откуда взявшейся, а потому, что благодаря ей длится немая вражда, разделяющая угнетателя и угнетенного.
Лучше умереть стоя, чем жить на коленях.
Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза.
Всякое одиночное самоубийство, не вызванное озлоблением, в некотором смысле благородно или исполнено презреня.
Раз спасение человека не в Боге, значит, оно должно свершиться на земле. Раз мир никем не управляется, значит, человек, принимая этот мир, должен взять на себя и управление им, что приводит к идее сверхчеловека.
Мир движется наугад, у него нет целеполагания. Следовательно, Бог бесполезен, ведь он ничего не хочет.
Раб начинает с того, что требует справедливости, а заканчивает тем, что желает царствовать.
Абсолютная свобода становится тюрьмой абсолютных обязанностей, коллективной аскезой, историей, которую предстоит завершить.
Общение и сопричастность, открытые бунтом, могут существовать лишь в атмосфере свободного диалога.
Диалог на человеческом уровне обходится дешевле, чем евангелия тоталитарных религий, продиктованные в виде монолога с высот одинокой горы.
Бунт ни в коей мере не является требованием тотальной свободы. Напротив, он призывает к суду над ней. Он по всей справедливости бросает вызов неограниченной власти, позволяющей ее представителям попирать запретит границы. Отнюдь не выступая за всеобщее своеволие, бунтарь хочет, чтобы свободе был положен предел всюду, где она сталкивается с человеком, причем под этим пределом подразумевается не что иное, как право человека на бунт. В этом глубочайший смысл бунтарской непримиримости. Чем более бунт осознает необходимость соблюдения справедливых границ, тем неукротимей он становится. Бунтарь, разумеется, требует известной свободы для себя самого, но, оставаясь последовательным, он никогда не посягает на жизнь и свободу другого. Он никого не унижает. Свобода, которую он требует, должна принадлежать всем; а та, которую он отрицает, не должна быть доступна никому. Бунт — это не только протест раба против господина, но и протест человека против мира рабов и господ. Стало быть, благодаря бунту в истории появляется нечто большее, чем от ношение господства и рабства. Неограниченная власть уже не является в нем единственным законом. Во имя совсем иной ценности бунтарь утверждает невозможность тотальной свободы, в то же время требуя для себя свободы относительной, необходимой для того, чтобы осознать эту невозможность. Каждая человеческая свобода в глубочайшем своем корне столь же относительна. Абсолютная свобода — свобода убивать — единственная из всех, не требующая для себя никаких границ и преград. Тем самым она обрубает свои корни и блуждает наугад абстрактной и зловещей тенью, пока не воплотится в теле какой-нибудь идеологии.