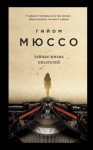Рафаэль Батай – начинающий писатель, который никак не может ухватить удачу за хвост. Рукопись его романа «Застенчивые вершины» не привлекает издателей, и он получает один отказ за другим. В поисках вдохновения он отправляется на остров Бомон, чтобы найти там своего кумира – Натана Фаулза, автора трех невероятных романов. Загвоздка лишь в том, что Фаулз много лет назад без объяснения причин оставил писательское ремесло и стал практически отшельником – он живет один, не дает интервью и...
– Я подумала, что он вам не нужен. – Вы смеетесь надо мной? – Мой подарок – это история. – Какая история? — Матильда с бокалом в руке пересела из-за стола в кресло. – Сейчас расскажу. Когда я закончу, вам ничего не останется, кроме как сесть за машинку и начать стучать.
Когда он возвращал к жизни старые барахлящие механизмы, в нем крепло убеждение, что он возвращает себе контроль над собственной жизнью.
деньги – хорошие слуги, но плохие господа.
Мучения мира – тяжкий груз, способный раздавить того, кто взваливает его себе на плечи.
Где-то на страницах книги судьбы написано, что слишком красивые розы живут в страхе перед увяданием. Этот страх толкает их порой на безумные поступки.
когда ему попадалась хорошая книга, написанная с любовью к читателю и позволявшая смаковать подробности, диалоги, мысли персонажей, он уносился в неведомую даль.
– Хочешь поступать только по закону – не бывать тебе хорошим романистом. И художником не бывать. История искусства – это история нарушения всех правил.
Нет ничего невыносимее, чем нести в себе еще не рассказанную историю.
Это было не бегство из реальной жизни в воображаемый мир, а возвращение в мир, преображенный чтением.
-Трудное дело - писать?
-Да, но без сомнения легче многого другого.
Трудность, источник страха-в иррациональности писательского труда: то, что ты написал три романа, не значит, что у тебя получится четвёртый. Здесь нет ни метода ни правил, ни размеченных маршрутов. Начало каждого нового романа - это прыжок в неведомое.
Писательское существование - наименее гламурное из всех, что только можно себе представить. Ты хочешь вести жизнь зомби - одинокую, в отрыве от людей? Хочешь проводить целые дни в пижаме, портить глаза перед экраном, давиться холодной пиццей, беседовать с вымышленными персонажами, постепенно сводящими тебя с ума? Ночи напролет истекать кровавым потом, корпя над фразой, которую три четверти твоих паршивых читателей даже не заметят? Вот что значит быть писателем.
Хуже всего то, что ты становишься невольником этого дерьмового существования, потому что пребываешь в иллюзии, что ручка и клавиатура превращают тебя в демиурга, мастера подправлять реальность.
– Люди больше не читают, что с этим поделаешь?
Я был не столь категоричен:
– Читают, только по-другому.
Одибер выключил плитку, прервав свист итальянской кофеварки.
– Ладно, вы же понимаете, о чем речь. Я говорю не о развлечении, а о настоящей литературе.
Как же, как же, о ней, любимой, о «настоящей литературе»… В какой-то момент такие люди, как Одибер, обязательно поминали ее заодно с «настоящими писателями». Но я никогда ни за кем не признавал права учить меня, что читать, а чего не читать. Привычка корчить из себя судью, выносящего приговор, что литература, а что нет, казалась мне недопустимым самомнением.
Я превыше всего ценил моменты, когда к жизни примешивался вымысел. Отчасти из-за этого я так любил читать. Это было не бегство из реальной жизни в воображаемый мир, а возвращение в мир, преображенный чтением. В мир, обогащенный вымышленными скитаниями и встречами с целью воплотить их в реальности.
Первейшее качество писателя — уметь захватить читателя хорошей историей, повествованием, способным вырвать его из плена повседневности и погрузить в правду, показать подноготную персонажей. Стиль — не более чем средство придать рассказу нерв, заставить вибрировать.
Мне казалось, что уникальная манера Фаулза предназначена именно для меня, именно ко мне обращена. Его романы были плавными, живыми, насыщенными. Я ни от кого не сходил с ума, но эти книги читал и перечитывал, потому что они говорили со мной обо мне самом, о моих отношениях с другими людьми, о том, как трудно удерживать штурвал жизни, об уязвимости людей, о хрупкости нашего существования. Они придавали мне сил и удесятеряли моё желание писать.
— Издатели, читавшие его, другого мнения.
Он покачал головой и презрительно фыркнул:
— Уж такой это народ… Они хотят, чтобы ты был им признателен за то, что они в двух словах изложат своё мнение о книге, над которой ты корпел два года. До трёх часов дня они обедают в ресторанах Мидтауна или Сен-Жермен-де-Пре, пока ты портишь глаза перед экраном, зато если ты медлишь с подписанием договора, то они каждый день тебе названивают. Им нравится корчить из себя максов перкинсов и гордонов лишей, но они навсегда останутся самими собой — литературным начальством, читающим тексты в виде таблиц Excel. Вечно их не устраивает скорость, с которой ты работаешь, вечно они изображают тебя ребёнком, считая, что лучше тебя знают, что нужно читателя, как должна называться твоя книга и как оформить её обложку. А когда ты добьёшься успеха — часто вопреки им, — то они всюду раструбят, что это они тебя «сделали».
Отца не оставлял навязчивый страх меня потерять: что я разобьюсь на машине, заболею, буду похищен во время прогулки в парке каким-нибудь психом…
Но в конце концов нас с ним развели книги. Книги, достоинства которых он сам так мне расхваливал. Я не сразу понял, что книги не всегда несут раскрепощение. Ещё они — разлучницы. Книги не только живут внутри стен, но и сами громоздят стены. Чаще, чем мы думаем, книги ранят, ломают, убивают. Книги — обманчивые светила.
Что ж, если уже сегодня ему суждено умереть, пусть это будет смерть за пишущей машинкой.
Он даже позволил себе излишество: купил за 99 центов «Поэта» Майкла Коннелли. С волшебной силой чтения его познакомила Джулия. Это она долго подсказывала ему, что читать: детективы, исторические и приключенческие романы. Не сказать, чтобы он сильно поднаторел в выборе правильных книг, но когда ему попадалась хорошая книга, написанная с любовью к читателю и позволявшая смаковать подробности, диалоги, мысли персонажей, он уносился в неведомую даль. С этим наслаждением ничто не могло сравниться, ни фильмы «Нетфликс», ни баскетбольные матчи любимой команды, не говоря уж о дебильных видео из Сети, превращающих людей в зомби.
Главное - сок, кровь твоей истории. Ты должен быть ею одержим, она должна пробивать тебя, как электрический ток. Она должна так жечь тебе вены, чтобы тебе оставалось одно: дописать роман до конца, как если бы от этого зависела твоя жизнь. Вот что значит писать.
Романисты — самые отъявленные лжецы, так или нет?
— Нет, политики еще хуже. А историки? А журналисты? Не обижайте романистов.