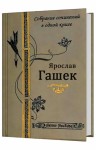Цитаты из книг
Потом Дробилек любил швею. Он всячески демонстрировал ей свое расположение и, будучи нрава кроткого и честного, как-то без всякого дурного умысла пригласил ее в лес погулять. На условленное место он явился с большим свертком под мышкой.
— Что это вы такое несете? — с очаровательной улыбкой спросила девушка, когда они садились на пароход, чтобы отплыть в пригород Завист.
— Потерпите, милая, вот до лесу доберемся… Не тут же, у всех на виду… — отвечал Дробилек, преданно глядя ей в глаза.
Однотомник создан на базе шеститомного собрания сочинений (1983 г.) fb2. Все тексты сохранены без изменений.
Картинки переведены в прозрачный формат (255 картинок. К, ставшим классическими, иллюстрациям Йозефа Лады добавлено несколько иллюстраций художника Петра Ткаченко).
Подробные сведения о переводчиках перенесены в главу "О переводчиках".
Все фото-материалы также собраны в одну главу - "Фотографии". Сборка: diximir (YouTube) 2017 год.
Когда они наконец оказались в лесу и уселись на траву, облюбовав местечко, скрытое от людских взоров, Дробилек, прижавшись к своей второй возлюбленной, нежно заворковал:
— Золотко мое, я тут захватил двое подштанников да пару рубашек, и нитки у меня с собой. Подштанники в шагу треснули, рубашки на локтях протерлись. Уж вы мне, золотко, почините прямо сейчас, а? — И, восторженно оглядевшись, воскликнул: — Нет, вы только послушайте, как поют птицы!
Рассказывая нам эту историю, Дробилек неизменно добавлял, вздыхая:
— Представляете, обозвала меня пентюхом. Я ей даже подштанники протянуть не успел — а ее уж и след простыл. Может, она меня не так поняла, когда я ей предложил подальше пойти, в самую чащу?
Однотомник создан на базе шеститомного собрания сочинений (1983 г.) fb2. Все тексты сохранены без изменений.
Картинки переведены в прозрачный формат (255 картинок. К, ставшим классическими, иллюстрациям Йозефа Лады добавлено несколько иллюстраций художника Петра Ткаченко).
Подробные сведения о переводчиках перенесены в главу "О переводчиках".
Все фото-материалы также собраны в одну главу - "Фотографии". Сборка: diximir (YouTube) 2017 год.
Все с любопытством на него посмотрели. Самого сильного мальчишку из второго класса, Калисту, одолевает, а сам в ад попасть трусит.
Долго искал в сети, но так нигде и не нашел. В начале 90-х слышал по-радио, в слегка подредактированном (для профессиональной постановки) и исключительно смешном виде (в текстовом виде не так смешно). Кто найдет аудиозапись (советских времен) - буду исключительно благодарен...
ГИМНАЗИСТ первоклассник... Балушка после ближайшего урока арифметики записал в свои грехи: «Я списал задачу по арифметике».
А в десять часов занес в список своих грехов еще новый: «Я — член тайного общества «Чертово копыто».
Если уж исповедоваться, так исповедоваться во всем, чтобы как следует очистить свою душу. Когда же он покается, то станет грешить снова, оставаясь и дальше членом ужасного тайного общества, которое дает ему столько различных выгод.
Это и в самом деле было ужасное общество. Только мафия по своему значению могла сравниться с «Чертовым копытом». Жуткие тайные союзы китайцев ничего не стоят рядом с «Чертовым копытом», ибо «Чертово копыто» было обществом первоклассников для надувательства педагогов.
Долго искал в сети, но так нигде и не нашел. В начале 90-х слышал по-радио, в слегка подредактированном (для профессиональной постановки) и исключительно смешном виде (в текстовом виде не так смешно). Кто найдет аудиозапись (советских времен) - буду исключительно благодарен...
все подчеркивали, что в жизни они всегда придавали важное значение нравственности, ища чжен-си, высшую правду, ведущую к совершенству! А что в поисках ее они случайно забрели на склад обмундирования в Иннокентьевской, в этом есть нечто роковое
Рассказ Я. Гашека помещен в собрании сочинений, кажется 5-й том, среди рассказов и фельетонов 1920-1922 гг., сразу после завершения его похождений в качестве коменданта г. Бугульмы (Удмуртия). Теперь бравому комиссару предстоит заниматься китайским полком... Текст совершенно не политкорректный,.. так что по поводу «разжигания неуважения к национальной группе "китайцы"» - просьба отделу "К" и прочим прокурорским мудакам, если им делать больше нечего, обращаться прямиком в чистилище.
переводчик — кореец, то есть принадлежит к народу, который, зная нечто дурное о ком-либо из китайцев, так радуется, что ни одному китайцу этого не скажет
Рассказ Я. Гашека помещен в собрании сочинений, кажется 5-й том, среди рассказов и фельетонов 1920-1922 гг., сразу после завершения его похождений в качестве коменданта г. Бугульмы (Удмуртия). Теперь бравому комиссару предстоит заниматься китайским полком... Текст совершенно не политкорректный,.. так что по поводу «разжигания неуважения к национальной группе "китайцы"» - просьба отделу "К" и прочим прокурорским мудакам, если им делать больше нечего, обращаться прямиком в чистилище.
Я вспомнил, что, когда китаец так выспренне пишет о личном свидании, он будет избегать встречи с вами за сто шагов
Рассказ Я. Гашека помещен в собрании сочинений, кажется 5-й том, среди рассказов и фельетонов 1920-1922 гг., сразу после завершения его похождений в качестве коменданта г. Бугульмы (Удмуртия). Теперь бравому комиссару предстоит заниматься китайским полком... Текст совершенно не политкорректный,.. так что по поводу «разжигания неуважения к национальной группе "китайцы"» - просьба отделу "К" и прочим прокурорским мудакам, если им делать больше нечего, обращаться прямиком в чистилище.
От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти.
Герой романа знаменитого чешского писателя Ярослава Гашека бравый солдат Швейк фигура одновременно комическая и трагедийная. Этот «маленький человек» литературы XX века — носитель народной смекалки и оптимизма — зримо известен всему миру по незабываемым иллюстрациям Йозефа Лады. Роман вошёл в сокровищницу мировой литературы.
Есть и ещё одно мнение об этой книге — это литература для настоящих мужчин, потому как казарменный юмор солоноват на женский вкус.
admin
добавил цитату
из книги
«Похождения бравого солдата Швейка»
5 лет назад
От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти.
От стен полицейского управления веяло духом чуждой народу власти.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
— Вам нужно в уборную? — любезно спросил Швейка вахмистр. — Уж не кроется ли в этом что-нибудь большее?
— Совершенно верно. Мне нужно «по-большому», господин вахмистр, — ответил Швейк.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
— Как вы думаете, Швейк, война еще долго протянется?— Пятнадцать лет, — ответил Швейк. — Дело ясное. Ведь раз уже была Тридцатилетняя война, теперь мы наполовину умнее, а тридцать поделить на два — пятнадцать.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Без жульничества тоже нельзя. Если бы все люди заботились только о благополучии других, то еще скорее передрались бы между собой.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
— Если хотите броситься из окна, — сказал Швейк, — так идите в комнату, окно я открыл. Прыгать из кухни я бы вам не советовал, потому что вы упадете в сад прямо на розы, поломаете все кусты, и за это вам же придется платить. А из того окна вы прекрасно слетите на тротуар и, если повезет, сломаете себе шею. Если же не повезет, то вы переломаете себе только ребра, руки и ноги и вам придется платить за лечение в больнице.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
"Я думаю, что на все надо смотреть беспристрастно. Каждый может ошибиться, а если о чем-нибудь очень долго размышлять, уж наверняка ошибешься."
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Куда приятнее чистить на кухне картошку, скатывать кнедлики и возиться с мясом, чем под ураганным огнем противника, наложив полные подштанники, орать: "Einzelnabfallen! Bajonett auf!" (Один за другим! Примкнуть штыки! (нем.))
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
- Короче говоря, - сказал Швейк,- ваше дело дрянь, но терять надежды не следует,- как говорил цыган Янечек в Пльзени, когда в тысяча восемьсот семьдесят девятом году его приговорили к повешению за убийство двух человек с целью грабежа...
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Правильно было когда-то сказано, что хорошо воспитанный человек может читать все. Осуждать то, что естественно, могут лишь люди духовно бесстыдные, изощренные похабники, которые, придерживаясь гнусной лжеморали, не смотрят на содержание, а с гневом набрасываются на отдельные слова.<...> Люди, которых коробит от сильных выражений, просто трусы, пугающиеся настоящей жизни, и такие слабые люди наносят наибольший вред культуре и общественной морали. Они хотели бы превратить весь народ в сентиментальных людишек, онанистов псевдокультуры типа святого Алоиса. Монах Евстахий в своей книге рассказывает, что когда святой Алоис услышал, как один человек с шумом выпустил газы, он ударился в слезы и только молитва его успокоила.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
"Я человек весьма терпимый, могу выслушать и чужие мнения."
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Когда Швейка заперли в одну из бесчисленных камер в первом
этаже, он нашел там общество из шести человек. Пятеро сидели
вокруг стола, а в углу на койке, как бы сторонясь всех, сидел
шестой - мужчина средних лет. Швейк начал расспрашивать одного
за другим, за что кого посадили. От всех пяти, сидевших за
столом, он получил почти один и тот же ответ.
- Из-за Сараева.
- Из-за Фердинанда.
- Из-за убийства эрцгерцога.
- За Фердинанда.
- За то, что в Сараеве прикончили эрцгерцога.
Шестой, - он всех сторонился, - заявил, что не желает
иметь с этими пятью ничего общего, чтобы на него не пало
подозрения, - он сидит тут всего лишь за попытку убийства
голицкого мельника с целью грабежа.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Пусть было, как было, — ведь как-нибудь да было! Никогда так не было, чтобы никак не было.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
хорошо воспитанный человек может читать все
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.
Беда, когда человек вдруг примется философствовать — это всегда пахнет белой горячкой.
"Похождения бравого солдата Швейка" (1883-1923) - самое популярное произведение чешской литературы, переведенное почти на все языки мира. Великий, оригинальный и хулиганский роман. Книга, которую можно воспринять и как "солдатскую байку", и как классическое произведение, непосредственно связанное с традициями Возрождения. Это искрометный текст, над которым смеешься до слез, и мощный призыв "сложить оружие", и одно из самых объективных исторических свидетельств в сатирической литературе.