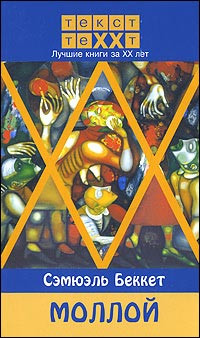Вошедший в сокровищницу мировой литературы роман «Моллой» (1951) принадлежит перу одного из самых знаменитых литераторов XX века, ирландского писателя, пишущего по-французски лауреата Нобелевской премии. Раздавленный судьбой герой Сэмюэля Беккета не бунтует и никого не винит. Этот слабоумный калека с яростным нетерпением ждет смерти как спасения, как избавления от страданий, чтобы в небытии спрятаться от ужасов жизни. И когда отчаяние кажется безграничным, выясняется, что и сострадание не имеет границ.
При всей моей давней и неизменной любви к людям с нарушенной нестандартной психикой , эта книга далась мне тяжеловато и с первых строк напомнила Звук и ярость У. Фолкнера, где начальные главы представляют собой поток сознания Бенджи, чье психическое здоровье далеко от нормы. Хотя каждый раз, написав такие слова, снова и снова задумываешься, что есть норма и патология. Конечно, можно привести определения из медицинской энциклопедии или той-же Вики, но если задуматься в более глобальном смысле, то возможно, выяснится, что все зависит от того, что взять за точку отсчета.
И что там, что тут авторы погружают нас в сознание человека, чье психическое здоровье отличается от нормы, признанной нами. Но тем сильнее воздействие такого приема. Ты медленно погружаешься в сознание Моллоя, движешься с ним из пункта А в пункт Б и в ходе движения узнаешь не только его мысли, а их оказывается чересчур много и по разным поводам, но и его боль, страх и одиночество. Мыслями он постоянно возвращается к матери, когда-то утерянной и слушать это чертовски больно. Ты знаешь, что он взрослый человек, но в душе не изживший боль потери и возможно, именно поэтому ставший в итоге тем, кем он стал и потерявший не только её, но и себя.
Возможно, трудность тут только в самом начале, а потом ты словно в голове героя и хочется понять истоки его болезни, его борьбы с собой и с обстоятельствами и идти вперед наперекор всему, посасывая для успокоения камень-голыш. В этом постоянном навязчивом движении тоже чувствуется неизжитый детский способ обрести под ногами почву.
Когда начинается вторая часть романа, кажется, что ты обрел эту самую почву под ногами, потому что тут привычное линейное повествование. Но это обманка, за которой скрывается еще один способ автора дать читателю заглянуть в душу Моллоя, только уже с другой стороны. Рассмотреть поближе его другое "Я", которых может быть великое множество в одном человеке, а тем более если сознание подвержено болезненным изменениям. Меняется ритм повествования, его стилистика, но в поведении, поступках и образе мыслей этого человека чувствуется пограничное состояние, скрытая боль и отчуждение. Его действия настораживают и обескураживают, но одновременно и хочется доискаться причин, толкнувших его к этому.
Здесь не будет логического завершения или объяснения всему происходящему. Тут каждый делает свои выводы.
Но все это только исключительно мое видение, потому что в такой литературе сложно разобраться и опять-же подходить к ней с привычными мерками не имеет смысла. Но, возможно, что таким образом автор напоминает нам, что все мы одинокие путники, бредущие без начала и конца по тернистому пути жизни и каждый из нас несет в себе свою боль и одиночество.
Любителям нестандартных подходов в литературе, а также желающим покопаться в чужой душе, которая как известно потемки, рекомендую.
При всей моей давней и неизменной любви к людям с нарушенной нестандартной психикой , эта книга далась мне тяжеловато и с первых строк напомнила Звук и ярость У. Фолкнера, где начальные главы представляют собой поток сознания Бенджи, чье психическое здоровье далеко от нормы. Хотя каждый раз, написав такие слова, снова и снова задумываешься, что есть норма и патология. Конечно, можно привести определения из медицинской энциклопедии или той-же Вики, но если задуматься в более глобальном смысле, то возможно, выяснится, что все зависит от того, что взять за точку отсчета.
И что там, что тут авторы погружают нас в сознание человека, чье психическое здоровье отличается от нормы, признанной нами. Но тем сильнее воздействие такого приема. Ты медленно погружаешься в сознание Моллоя, движешься с ним из пункта А в пункт Б и в ходе движения узнаешь не только его мысли, а их оказывается чересчур много и по разным поводам, но и его боль, страх и одиночество. Мыслями он постоянно возвращается к матери, когда-то утерянной и слушать это чертовски больно. Ты знаешь, что он взрослый человек, но в душе не изживший боль потери и возможно, именно поэтому ставший в итоге тем, кем он стал и потерявший не только её, но и себя.
Возможно, трудность тут только в самом начале, а потом ты словно в голове героя и хочется понять истоки его болезни, его борьбы с собой и с обстоятельствами и идти вперед наперекор всему, посасывая для успокоения камень-голыш. В этом постоянном навязчивом движении тоже чувствуется неизжитый детский способ обрести под ногами почву.
Когда начинается вторая часть романа, кажется, что ты обрел эту самую почву под ногами, потому что тут привычное линейное повествование. Но это обманка, за которой скрывается еще один способ автора дать читателю заглянуть в душу Моллоя, только уже с другой стороны. Рассмотреть поближе его другое "Я", которых может быть великое множество в одном человеке, а тем более если сознание подвержено болезненным изменениям. Меняется ритм повествования, его стилистика, но в поведении, поступках и образе мыслей этого человека чувствуется пограничное состояние, скрытая боль и отчуждение. Его действия настораживают и обескураживают, но одновременно и хочется доискаться причин, толкнувших его к этому.
Здесь не будет логического завершения или объяснения всему происходящему. Тут каждый делает свои выводы.
Но все это только исключительно мое видение, потому что в такой литературе сложно разобраться и опять-же подходить к ней с привычными мерками не имеет смысла. Но, возможно, что таким образом автор напоминает нам, что все мы одинокие путники, бредущие без начала и конца по тернистому пути жизни и каждый из нас несет в себе свою боль и одиночество.
Любителям нестандартных подходов в литературе, а также желающим покопаться в чужой душе, которая как известно потемки, рекомендую.
Нет, к такому никогда не бываешь готов. Когда дорога, расплывающаяся перед глазами, вихляет скалоподобными холмами, и все в твою голову. Внимание! В твою, да, именно голову, так.
Восстанавливаю память по старым плейлистам, а М. едет к маме. Едет, идет, скачет. Инвалид, калека, воплощение себя, своего сына, своего отца. А что поможет ему, в той реальности, где идет/не идет дождь, где любая поступь - это отражение, припадающее сухими губами к роднику безумия?
Вы никогда не встречали на дороге своего двойника? А себя самого?
Мо. вам расскажет, как оно бывает. Возможно.
Куда идет он, едет, может быть. Давит собак. Использует велосипед, убогий, ищущий маму.
Встрепенитесь, ему больно, посмотрите же на него, он не видит из-за дождя!
Лежать в палате чисто, сухо. Грязь - она вторая кожа, но они заберут и ее. Велосипед, наверное, оставят. Рот до гримасы, и сколько нужно использовать слов, чтобы описать здоровое безумие? Нужны они все. Все языки, все алфавиты.
Мол., как же тебя там звали, черррт побери?
Бросай велосипед, скукожься до момента зачатия, прокрутись назад во времени, найди то, что утратил навсегда. Рот запечатан, и слов недостаточно много. Мало.
Молл... играет, падает. Нога не будет больше слушаться, жизнь больше не будет течь, плыть, вытягиваться. Скорее уж он перед ней. По весне. А может, летом. Когда будет и не будет полночь. Система пересчитывания камней... Скажи им, что было твоим именем!
Собери велосипед из набора конструктор. Молло слушает!
Вертикально достигнет пункта назначения: одновременно А и Б, альфа, омега, точка сингулярности и проч. Он вам не какой-то там психованный!
Да посмотрите же на меня. Я все еще иду. Еду. Молло, как звон колоколов.
Куда, и зачем, и что мы будем делать, когда прелесть новизны исчерпает себя? В какую сторону ползти, покажите, я верую вам. Я верую в вас.
Моллой!
Его зовут Моллой!
И меня. И всех нас. Мо-л-лой. Мо-ллой.
Для тех, кто ничего не понял:
Я правда не знаю, как рецензировать гения, плескавшего ведрами хаос на страницы книг. Мне хочется быть яснее, но Беккет запретил мне. Считайте, что у нас ментальная вневременная связь, и я, о-хо-хооо, посыл получила. Что до вас, немногие, добравшиеся до сей буквы, то вот, держитесь, сокровенное: читайте. Аккуратно, только ныряйте с головой. А думать, как Моллл-ллой, я буду еще долго, да.
Автор, после которого я гарантированно ору внутрь себя.
После которого срочно к зеркалу - проверить, на месте ли голова, разум, я.
Он с мясом выдирает что-то духовно близкое мне. В двух коротких предложеньицах бывает целая жизнь, больная и одинокая.
В нем столько образности, что я бы снимала фильмы (числом - бесконечность) по его душераздирающим словам. Невозможные фильмы носятся в моей голове от его слов...
У каждого есть, во что верить. Я за свою небольшую жизнь прочно уверилась лишь в хаосе, что позиция, скажу вам, так себе. А Беккет, он мне ходит по мозолям будто бы. Чечетку на мозге отплясывает, размахивая полосатым платочком. И я не прощу его за то, но умоляю из раза в раз - еще только горсточку кипящих слов, пожалуйста. Окатить сердце ведром гвоздей. Зачем? Просто. Чтобы понять, что
Я все еще здесь, я все еще жив
- как пела советская постпанк команда.
"Моллой" - математически выверенный, эстетически совершенный роман Сэмюэля Беккета.
Чаще всего автор в своих произведениях представляет отношения при помощи взаимозависимых и взаимодополняемых пар, будь то Владимир и Эстрагон, Хам и Клов, и многие другие. В данном романе такие связи могут представлять комбинацию как в гэге с камешками (симметричную и ассиметричную). Вот при помощи пар и удобней всего рассмотреть роман. Если их условно поделить на три группы, то это будут социальные отношения, религиозные и символические.
1. Социальные: Моллой-мать, Моран-сын, Моран-Моллой
Мать (Моран) - Моллой (сын). Родитель - деспот, сын - аморфное существо, но способное прятаться и бежать, значит бороться. В данном случае пары идентичны.
Моран-Моллой. В какой-то момент возникает мысль, что Моран и Моллой не просто двойники, они - одно лицо. Моран Моллоя не нашел (или условно не нашел, был момент, когда Моран столкнулся с неизвестным стариком). По факту он сам стал Моллоем, или как минимум последний его внутренним "Я" (а может и был?).
Ключевой момент. Если Беккет изобразил цикличные отношения (сначала Моран - мать, затем - Моллой), то можно предположить, что сын Жака Морана - это такой маленький будущий Моран-Моллой. То бишь сын заранее обречен быть пораженным болезнью и стать таким же отверженным как отец.
2. Религиозные: Габер-Моран, Йуди-Моран, Моллой-полицейский, Моллой-Лусс
Габер, он же полицейский, он же Лусс - скорее всего посланники некоего высшего разума - Йуди/Нотта/Годо. Есть некая безысходность в повторяющейся судьбе героев. Беккет даёт надежду на исправление, но факт остается фактом - люди с годами практически не меняются, как Феллиниевский Марчело.
3. Символические: Моллой-Анкилоз (болезнь), Моран-Анкилоз (болезнь)
Анкилоз по сути может быть ещё одним двойником Моллоя. Болезнь символизирует окостенение души, очерствление, которое приходит с годами. В цикле парных взаимоотношений сын Жака Морана обречен получить своего Моллоя (анкилоз). Но можно ли все изменить? Можно. Ведь относись Моран к своему сыну по-другому можно было бы разорвать этот цикл. И уж на сколько был бы обречен влачить существование данный отпрыск точно не зависело бы от каких-то камешек.
Любите ли вы психов, как люблю их я...?
Скажу честно, с первого раза эту книгу я не осилила - просто почему-то перестала ее читать, решив вернуться позже. Спустя год вернулась...
У меня с детства страсть к не совсем нормальным людям, к таким, которых называют "со странностями", и чем больше странностей, тем больше интереса с моей стороны. Я даже недолго мечтала стать психиатром =). Так вот "Моллой" прекрасная возможность не только посмотреть и понаблюдать, но и самому не на долго стать таким.
Первая часть - один огромный абзац - поток сознания Моллоя. На мой взгляд, сначала трудновато читается. Зато потом привыкаешь и создается ощущение, что ты находишься в голове у главного героя, наблюдая за движением всех механизмов и шестеренок. Ты не смотришь на него со стороны, нет, напротив, ты, как будто проникаешь в его сознание и оно полностью замещает твое. Как только перестаешь читать, срабатывает выключатель и ты снова на своем месте - "в себе". Вся первая часть буквально "выключает" тебя из жизни.
Вторая часть несколько отличается стилистически, и дает иной взгляд на ситуацию. Возможно, мы увидим Моллоя в прошлом и поймем, как он дошел до жизни такой...а возможно нет, в произведениях Беккета нельзя однозначно сосчитать количество героев и понять есть ли они вобще.
Ярчайший образец модернистской литературы, который стоит прочитать, хотя бы в ознакомительных целях.
Тишина и кротость
Вступление. Часть 1.
С чего начать? С Достоевского, Камю, Вордсворта, Данте?
Мысли ширятся, оступаются, вместе с сердцем, словами... какая-то осень касаний книги: листы, отшумев, опали, обрушились на меня жёлтою листвой воспоминаний; веки, словно бледные ладони, беспомощно и слепо шарят в осыпающейся и выцветшей тьме страниц, ладони щурятся, перелистывая солнечный воздух, сквозные мгновенья: так в детстве, заблудившись в лесу, кружа по орбитам-спиралям отчаяния жизни, находишь лишь себя, натыкаясь на призраков своих существований: подойдёшь к высокому дереву, обнимешь его ладонями, прислонишься к нему щекой, губами, сердцем... и слушаешь, слушаешь всем своим существом эту напевную синь высоты, ощущаешь, как оно блаженно и туго, словно мачта, раскачивается в студёном, загустевшем обмороке высоких пространств, как синева нежно дробится и сеется сквозь мигающую листву...
Закроешь глаза, и чувствуешь это талое, янтарное течение пространств, времён и сердца; тебя уже нет, поток жизни уносит душу и тело - вот они ещё вместе, вот уже разлучились, ещё соприкасаются ладонями, расстались навсегда..., - в открытое море синевы к какому-то истоку жизни, мира, где не нужно искать ответы на мучительные вопросы, не нужно искать истину и бога... всё так сладко очевидно, так тепло-рядом, что ощущаешь себя в чреве мира, сжатым в какой-то кулачок эмбриона, сквозь блестящую пуповину паутинки, реющей в воздухе и коснувшейся тебя, текут звёзды, облака и крики птиц... чувствуешь себя космонавтом, невесомо плавающем в лиловой, бархатной тьме вечной ночи, связанный с Матерью-Землёй только пуповиной троса.
Если он порвётся, то тебя начнёт уносить в открытое море космоса, где плавниками акул реют карие крылья ангелов и восходящего месяца...
Как хочется вернуться в это состояние осторожной, доверчивой тьмы, как у Андрея Белого в его "Котике Летаеве", припомнить то, что было не то что в детстве, младенчестве, но и...
Помните как Наташа Ростова у Толстого говорила жарким шёпотом Сонечке ночью: мне иногда кажется, что вот если вспоминать, что было раньше, в детстве, то можно довспоминаться до того, когда тебя ещё не было...
Так в детстве бежишь счастливый по лесу, на крыльях какого-то яркого, парно́го счастья весенней природы, бежишь сквозь деревья, кусты, и вдруг, замираешь у глубокого, тёмного оврага, в котором плещутся звёзды и ночь.
Ещё чуть-чуть, и ты упадёшь, сгинешь на веки, и счастье, слепое счастье природы у тебя за спиной, тихо подходит сзади тебя, и лиловым, прохладным касанием мотылька толкает тебя в эту ночь... и все смыслы мира, все тёмные истины, родители, дом, милая девочка с лиловым бантиком в волосах, её черничный поцелуй в кустах... всё, всё кружится, дробится, распадается и летит вместе с тобою в бездну, и мир предстаёт заледеневшим космосом, что оттаял талым светом звёзд, и хлынул на тебя всей бессмысленной, слепой и немой тёмной влагой, всем грозным, древним космосом, что был до твоего рождения, в котором ты смутно мерцал вон в том цветке, мотыльке, звезде... а теперь, всё это порвалось, нарушилось, и ты захлёбываешься звёздами, своим существованием, мир кажется безумным, как при грехопадении, когда человек был блаженно слит с миром, с его красотой и словом бога, и вдруг, бог уснул, и ночь сошла на землю, и Адама и Еву, словно детей, накрыли волны мрака, змеение теней от ветвей, случилось что-то страшное, какое-то насилие над детьми, от которого они в ужасе отшатнулись, захотели по-детски скрыться в смерть, в ничто, в грядущее, грех, где нет бога, нет этого безумного мира!!
А бог этого не понял, не понял всей той муки, когда заживо ощущаешь это нравственное распятие задолго до распятие Христа, когда физически ощущаешь звёзды, милые деревья и зверей, как утрату себя, как отсечение своих конечностей, крыльев... а бог этого не понял, и дети в муках стали искать в мире бога, которого нет, ибо он отрёкся от своей любви к миру и детям своим, не побежал сквозь тернии звёзд прямо в ночь искать своих перепуганных до безумия детей, не оставил тёплый дворец неба, не сбивал ноги в кровь в поиске... он завёл себе нового сына, а дети из прошлой жизни, блуждают в мире, где умер бог, где ещё нет бога: это похоже на записки из подполья Достоевского, только с той разницей, что это дно подполье - ад и ничто, и человек ощущает себя в нём не человеком, а почти демоном, нечто древним, в ком тлеют и стигматами цветут на запястьях цветы пульсаций человека и ангела, мира...
Достоевский писал, что если бы кончился мир, и человечество предстало бы перед судом бога, то оно протянуло бы ему в своих ладонях книгу "Дон Кихот", сказав, что так оно поняло жизнь.
Не знаю, думаю, многие книги человечество могло бы протянуть богу: Котлован Платонова, Постороннего Камю, Моллоя Беккета...
Мне даже кажется, что каждый человек должен прийти к богу со своей книгой: многие женщины несли бы в руках, прижимая к груди, словно ребёнка, "Мадам Бовари" Флобера, "Каренину" Толстого, "Грозовой перевал" Бронте... кто-то вообще пришёл бы без всего, что-то зажав в кулачке: женщина робко открыла бы бледный, кулачок перед ангелами, и
на дрожащей ладошке сверкнул бы грустным мотыльком стих Есенина...
Во всяком случае, бог вполне мог сойти с ума от сострадания и чувства вины, он упал бы на колени перед своими заблудшими детьми, пришедшими к нему из Ада Освенцима, из тёмных веков Инквизиции, безумного 20-го века.
Он мысленно бы, как в древности, когда боги переодевались в юродивых, странников, нищих, ходя меж людей, отрёкся бы от сверкающей роскоши своих регалий, сбросил бы все райские одежды, и отправился бы одним обнажённым, слепым от горя чувством, в прошлое, желая что-то изменить, искупить...
Он тянулся бы прохладным, просиявшим холодком к глазам Жанны Дарк на костре, к слепому блику солнца на куполе церкви, когда казнили Достоевского, стрекозой порхал бы над яблоком в руках Евы... мысленно срывая и протягивая ей все плоды, все звёзды, только бы она, дети... были живы, были с ним, а не в аду существования..
Книга Беккета - это поиск бога в мире, где нет бога, где бог отлучился куда-то, сошёл с ума от горя, и осиротевшая красота мира вздохнула своими синими крыльями в пустое небо...
Часть 2
Моё вступление затянулось? Простите, я так же заблудился в своих мыслях, как безумный Моллой - в мире, в поисках матери и отца, и в этом смысле роман Беккета похож на гениальный в своей мрачности роман Фолкнера "Когда я умирала", но у Беккета образ матери, обрёл гностические черты Матери-Софии, высшей женственности и мудрости в природе, как и бог, сошедшей на Землю, дабы исправить ошибку прошлого.
Эта мистическая Мать окружает Моллоя на всём его пути по аду - она - новая Беатриче в аду, она тянется к нему бледными пальцами цветов, когда он упал в канаву, тянется спелым бликом в окне...
И в этом смысле мы наблюдаем в романе эмбриональный космос предсуществования, ощущение жизни - как преддверие перед рождением в вечность, когда мать лунно и спело обнажив свой живот весенним утром, нежно водит по нему веточкой сирени, а во снах ребёнка смутно вспыхивают лиловые зори, спелые гроздья касаний и звёзд, тянущихся к запретному плоду...- к жизни.
Я двумя руками "за", когда говорят о том, чтобы муж присутствовал на родах жены.
Но... с одной оговоркой: он должен быть возле своей любимой, сжимая её тёплую руку, целуя её бледное лицо ( говорю это со знанием дела, надеясь, что первобытные "переживания" мужа в кабаке с друзьями окажутся в прошлом. И хоть я не принимал ещё роды у жены, я был на родах у подруги, был с нею, когда она осталась одна и ей было безумно страшно находиться совершенно "одной" во время родов.)
Разве муж должен видеть то, что не должна видеть и женщина?
Иной раз роды проходят экзистенциально тяжело, и рождённый ребёнок, обливаясь кровью, порой соприкасается с испражнениями матери, от натуги.
Подобное случилось и с Моллоем. Отца - не было, как и бога нет.
Мать была, но и её не было, ибо её кто-то изнасиловал и она рожала в полубреду.
Эта тональность достоевского сиротства человечества в мире, доведена Беккетом до крайней степени мирового отчаяния: рождённый из ничто, в мир, мгновенно и бледно блеснувший в лицо, капнувший на сердце и глаза какой-то шумящей звездой, листвой красоты, поцелуя... и опять - ничто, раскрывающее свои объятия.
И это вся жизнь? Это "ничто" кажется больше жизни, хочется сразу жить в ничто, сокрыться в ничто, уйдя из этой безумной жизни, которая для Моллоя символично представляется "дерьмом".
Больше того, Моллой полагает, что он родился именно из задницы: мрачный рефрен мысли де Сада, с его пристрастием именно к этому экзистенциальному виду секса, в котором нельзя зачать детей: совершенно призрачное существование Моллоя, его жизнь и мышление, сердцебиение вспять, в ничто.
Любопытно в этой связи вроде бы ничего не значащие и многих должно быть смущающие упоминания Моллоем подсчитывания того, сколько раз он пукает в неделю, день, час..
Целая градация этого процесса! Разве в этом есть что-то глубокое? Да дети часто используют подобную символику, это нормально, особенно для несчастного умалишённого с умом дитяти.
Но не всё так просто: фрейдисты, возможно, диагностировали бы здесь анальный характер с элементами Эдипового комплекса ( призрак Пенелопы так и маячит в романе), что в смысле символики неизвестного отца, бога, которого ГГ. хочет "убить", выглядит даже почти оригинально.
Но мы ведь не фрейдисты, верно? Потому мы пойдём другим путём.
Помните как в "Завтраке для чемпионов" Воннегут расшалился, и нарисовал какого-то идеально многорукого чёрного паучка ( вспомнилась банька с паучками у Достоевского), некое инфернальное колесо велосипеда с тёмными спицами, стремящегося прямо в ад?
Это он так изобразил анус человека...
Хм... шёл в другую от Фрейда сторону, а пришёл всё туда же.
Иначе говоря, если воспользоваться подсказкой Фрейда, анальный характер нашего героя растушевался на весь мир, засияв чёрной звездой, которая его поглощает, и в этом смысле символичны слова Моллоя о том, что луна в небе похожа на зад.
Да и не характер это... тут некая трансцендентная сублимация-перевёртыш травмы человеческого рождения, его нечистоты, которую Молой воскрешает в данных символах, стремясь не только очиститься в чувстве примирения к близости к этой теме ( мол, жизнь хоть и грязная штука, но и в ней что-то есть... другой то нет), или очищением чистоплотностью и аутической аккуратностью мысли и распорядка чувства, но вместе с тем, момент пукания, символизирует и абортические муки саморождения, холостого рождения, тактильные ощущения тёмной пульсации небытия.
К слову о Фрейде и Эдипе.
Помните ту самую загадку Сфинкса, не ответив на которую он сбрасывал человека в пропасть?
"Утром он ходит на 4 ногах, днём на 2, а вечером на 3". Кто это?
Разумеется, это человек, хотя я бы мог ответить, что это мой сосед.
В утре жизни, ребёнком человек ходит на четвереньках, повзрослевши, человек ходит на 2 ногах, а в старости - опирается на костыль.
У Беккета Моллой едет на велосипеде, эдакие солнечно-лунные спицы слепого движения в немо проносящемся мире.
Подобная динамика распятой скорости очень важна: мир фатально и мирно проносится кинематографической лентой перед взором смотрящего, брызгая в лицо терпкой радугой смазанных звуков и красок: ласковый импрессионизм безумия, похожий на поцелуй ангела, дабы ужас мира и его боль сладостно растушевались: должно быть, так смотрят на мир летящие от звезды к звезде ангелы.
Вне велосипеда, этих очков для дальнозорких ног, грациозно уютившихся на переносице копчика ( ах, знавал я в юности одну очаровательную девчонку, которая обгоняла меня на велосипеде, кокетливо привставая над сиденьем, и это было так славно, словно она, приспустив на переносице очки, смотрит на меня прищуренно-властным взглядом, чуть ухмыляющимся, моргая мне сладкой, реснично-карей бахромой трусиков, проглядывающих из под жёлтых, коротких шортиков.), Моллой вновь видит мир во всей бледной неподвижности настороженных, наклонившихся пространств: вот-вот что-то скажут на ушко, на сердце: что-то гадкое, жуткое, и выпрямятся, побегут, как прежде...
Моллой ходит на костылях. ( усугубляющиеся болезни ног Моллоя - почти вербальное, зримое ощущение тёмного притяжения человека к Земле, к смерти, ломающее его по частям, и в итоге, расплющивающее, искажающее и вытягивающее бытие человека в пространстве и времени, словно на горизонте событий чёрной дыры, умершей звезды) Т.е. мы видим жуткий симбиоз возрастов человека из загадки Сфинкса, словно бы Эдип сорвался со Сфинксом в бездну и ночь, в смерть, и у человека появилось новое качество восприятия, самосознания передвижения: он ходит в мире так, как чувствует наше обнажённое сердце перед громадой нависшей над нами природы и звёзд, так мыслит тростник Паскаля, но у Беккета - это сорванный тростник, и потому просто в ужасе чувствующий в пустоту и ночь: быть может, основания костылей, это острые локти крыльев ангела, забывшего, что он ангел, вот так вот трагично-нелепо ковыляя ими по земле?
Это Бодлеровское ковыляние ангела-альбатроса, достигает апогея, когда Моллой, словно Terra incognita, рассматривает свой половой орган, яички, одно из которых не то лунно опускается, не то другое солнечно восходит.
Иногда читая подобный поток сознания идиота, чуточку теряешь себя, и тебя уносит....
Решил посмотреть, как у меня обстоит дело с этой лунно-солнечной символикой.
Набоков прав: всё "это" в зеркале отражается как грустный слоник ( но судя по "лобику", у меня отражался вполне забавный мамонтёнок). Если посмотреть сверху, то "они" похожи на довольно откровенное декольте женщины на полотнах позднего Возрождения - сразу вспоминаются прелестно пышнотелые красавицы Гюстава Курбе.
Если разбить на времена года, то "бюст" а-ля Бенджамин Баттон, молодеет, волшебно меняется: весной - роскошно 4 размер, летом - 3, осенью - 2, зимой - как у девочки-подростка, застенчиво-первый.
Если взглянуть чуточку сбоку, то словно бы Хоббит под высоко шумящим осенним клёном приспустил штанишки и оголил свой задик...
Не знаю как у Моллоя, но у меня вроде бы "правое" галантно пропустило вперёд и чуточку ниже, - "левое": робко так семенят на месте ( простите за тавтологию), стесняясь, словно желая что-то сказать.
Если бы в этот миг в комнату зашла моя жена, увидев меня со спущенными шортами и с книгой в левой руке, то она могла бы подумать, что я извращенец, которого возбуждает Беккет ( и на день рождения я вполне мог получить подарочное издание "Шума и ярости" Фолкнера: мол, вот как я тебя люблю, что даже мирюсь с твоими эстетическими и малопонятными для меня извращениями..)
Кто-то из вас скажет: laonov совсем сошёл с ума...
Вовсе нет
Фрейд: Нет? Мы с тобой вчера вообще говорили о пе...
Я: Опять ты! я уже говорил, чтобы ты сидел тихо!!
Фрейд: Но разве Моллой не любопытен с точки зрения психоанализа? Я бы с ним поговорил о его возможных играх с дефекацией и её эпикурической задержкой.
Я: опять ты за своё! Это то тут причём?
Фрейд: Ну смотри, если слабоумный мальчонка к чертям перепутал отверстия, из которых рождаются, то он должен был перепутать и заплутать в понятийном лабиринте духовно-телесного.
Для него, словно для экзистенциалиста, существование стало предшествовать сущности, оно стало нечто грязным, отчего нужно освободиться, очиститься, но он это сделать не может, и испытывает сильнейший стресс, как и многие дети, которые чувствуют себя грязными, когда их насильно сажают на горшок, подгоняют, смотрят...а тут и смотреть то некому, ибо бог - умер, смотрят одни звёзды и листва на ветру.
Одним словом, попытка найти приятное чувство в сдерживаемом акте дефекации, могла являться для Моллоя задумчиво абортической символикой рождения - аборт ложно сливается с ложным актом рождения, и плод то выглядывает на сияющий ужас мира, то прячется от него в тёплый, изначальный сумрак материнского лона.
- Идиоты!
Я: а это кто?
Набоков: вам больше не о чем поговорить?
Лучше бы поговорили о том гладком и чистом камушке в кармашке у Моллоя, который тот сосёт для успокоения в момент одиночества и тоски.
Замечательный образ Демосфена, который борясь со своим косноязычием, набирал в рот камешки, и говорил... А тут....тут есть нечто Ахматовское, когда слово от горя и невозможности вместить в себя всего человека, его нежность и боль, обращается в камень.
Фрейд: точно! камень, как образ зародыша в лиловом, тёплом полумраке утробы, не могущий родиться: желание Моллоя выносить, доносить себя, своё слово, проглотить "случайно" камушек, абор...
Набоков: идиот! Венский шарлатан!!
Я: Боже, опять вы ссоритесь, замолчите!
Фрейд: ( голос обернулся ко мне). Сказать почему ты, как и Моллой, упомянул о своих яичках?
В этой эроктильной сублимации слова ты бессознательно думаешь о своих детях, которых нет; это почти спиритическое общение с ними, но наоборот, в отрицательном значении спиритизма..
Я: замолчи! ты прекрасно знаешь, что это не по моей вине, да и её вины тут нет!!
И этот словесный эротизм может иметь другие причины, не ведомые вам, чёртовым психологам: когда Жан Жак Руссо в юности выбегал из за дерева в парке и показывал смутившимся женщинам свою распахнутую наготу, это было просто желанием обнажить своё сердце, которое он ещё не мог высказать, тут не сублимация переноса эроса в слово, а скорее смутное желание припомнить, пробудить в эмпирее и воздухе мира слов нечто любовно-телесное, некую просиявшую в любви плоть...
- Сааш, ты с кем тут разговариваешь?
- Доброе утро, любимая, так, ни с кем, я книгу читаю, рецензию пишу...
- Странно ты пишешь рецензии, какой-то ты весь взъерошенный, вспотевший ( поправляет мне шорты на бёдрах, уходит на кухню)
Что-то я увлёкся, простите... Продолжим?
В романе есть один тонкий момент: Моллой размышляет о том, чтобы оскопить себя... наезжает на собаку, она умирает и он, вместе с хозяйкой собаки ( Софией), хоронит её, и оказывается у неё дома.
Гностические блики имени Софии-Матери вновь струятся по тексту, но вместе с тем прибавляется образ Цирцеи, Моллой как бы умирает, и просыпается ночью в тёмной комнате, с мистическим мерцанием луны за окном: это образ женского лона.
Моллой просыпается голым, помытым, - чистым, избавленным от чувства духовного, грязного заблуждения о своём рождении.
Он побрит, он может ходить без костылей, словно бы забыв о том, что в прошлой, Бенджамин-Баттоновой жизни он был калекой.
Он... да, он одет в женскую пижамку. Замечательный по тонкости символ, но проницательный читатель, несколько сошедший с ума от данного чтения, поймёт, что Моллой вернулся в то существование эмбриона, когда он является девочкой, изначальным, высшим полом на Земле.
Если вспомнить отсылки Беккета к "Божественной комедии" Данте, к его Аду, то на оставшийся ум приходит образ 9 месяцев вынашивания ребёнка, как 9 кругов ада., или наоборот...
Все эти луны, солнца, яички - суть световые пульсации рождения, смещения времени, самосознания, рассматриваемые как бы со стороны.
Что любопытно, роман Беккета удивительно напоминает "Постороннего" Камю, особенно это заметно по началу: у Камю начинается с того, что у человека умерла мать, но он не знает, когда, ему почти всё равно.
У Беккета роман начинается с того же эмоционального трамплина образности: Моллой описывает себя и посторонне покачнувшийся от горя мир из комнаты матери, но он словно не знает, жива она, или мертва - так неопределённо её существование.
Из книги Камю эмигрировали также и образы старика и собаки, которая также умрёт ( не знаю, что это за такая эстетическая карма, и что такого сделала несчастная собака, что ей суждено умирать из книги в книгу: думается, что была первая собака, уже в реальном мире, умершая на глазах у Камю. Впрочем, собак в романе будет несколько, эдакий 3-главый Цербер на выходе из Ада)
И если у Камю мир и люди ограждены, по словам Сартра, неким стеклом, и потому их движения без видимых слов, кажутся абсурдными, то у Беккета это стекло треснуло, искривилось от зноя, и мир безумно исказился, улыбнулся.
Слова и звёзды, деревья и люди, мучительно смешались, ибо содрана кожа слов с явлений, и мир замер в бледном обмороке тишины, тишина сочится талым янтарём, голубой кровью звуков истекают ладони, слепо шарящие в глухом и заросшем безмолвием пространстве.
Сердце завязло в витражном мареве трещинок на стекле, похожем на талый трепет крыла стрекозы что села возле лица Моллоя, ползущего из последних сил в лесу по земле, цепляясь костылями за камни, словно бы он взбирается на высокую, Сизифову гору ночи: Моллой смотрит на шёлковый трепет крыльев... пройдёт голубая дрожь по ним, крылья поднимутся в небо, и мир разобьётся к чертям, и он сорвётся в ночь и звёзды..
Ох, вроде и выдумал эту стрекозу только что, но самому стало жутко от этого образа.
Боже, что я только не наплёл в своей рецензии!
Поверьте, иной раз я мысленно вместе с героем сострадательно передвигался по дебрям романа и бреда на костылях мыслей, порою подавал костыли Моллою, иногда - замахивался костылём на него, когда он на 3-х страницах описывал сосание камушка и его перемещение из кармашка в кармашек и в рот: может статься, что в муках добытая людьми истина, будет похожа на этот аутический обрядный бред - мёртвое, окаменевшее слово, таскается из века в век... из книги в книгу... для чего? возможно, вся истина - в красоте шепчущего на заре мира...А другой истины мы не заслуживаем.
И всё же, мы шли вместе, это был путь всего человечества, Улисса, впавшего в маразм.
Сквозь солипсизм существования и Эроса, смешения начала и конца, времён и пространств, грехов и добродетелей, я шёл с ним рядом, грешил вместе с ним.
Я сострадал ему даже тогда, когда томясь по любви в мире, где умер бог, своей смертью, ухнувшей на весь мир повергшейся тенью, заслонив мир и любовь....он любил себя в прямом смысле, самоудовлетворяя себя, занимаясь сексом с порочной старушкой, причём тем самым экзистенциальным сексом: фактически, мы видим здесь солипсизм зачатия, желание родиться обратно в тёмную пустоту и смерть. И в том и в другом случае, Моллой жил, истекал существованием в холостую пустоту мрака, бесплодного, зеркально равного тому звёздному мраку, навстречу которому бессмысленно и бесплодно бьётся, истекая, наше сердце.
Да, я был подобием Юнговской тени и ангела-хранителя Моллоя ( я так же как и ангел, ничем не мог помочь, я мог лишь сострадать и сходить с ума от невозможности любви на Земле), я всегда был с ним ( я даже пробовал сосать камушек, как и он), но я не гневался на его грехи, я смотрел на них глазами ангела: я понимал, что эта старушка, с библейским именем праведницы Руфь, быть может просто его приютила, а может, он опять что-то напутал, и это... его кто-то изнасиловал в лесу.
Во всяком случае, образ умственно отсталого и несчастного калеки, меж двух костылей, это образ распятого Христа меж двух разбойников: в мире, где умер бог, человек может занять место лишь распятого, умирающего, никому не нужного бога.
Эта книга - великий урок не столько людям, сколько богам: может статься, что в конце мира, когда бог придёт судить людей, он поймёт, что судить, кроме себя, некого, и, упав на колени перед несчастным, искалеченным человечеством, сидящем на земле и пересыпающим из руки в руку, грустный прах сожжённых городов, и шепча что-то невнятное в пустые небеса, безумно и счастливо улыбаясь, бог поймёт, что человечество было просто умственно неполноценным существом, судить которое - грех.
Мне почему-то вся эта история напомнила балладу Вордсворта - "Слабоумный мальчик".
Мама отправляет мальчика на пони ( почти библейский ослёнок) через вечереющий, тревожный лес за доктором, для умирающей соседки.
Время идёт, соседка сама уже безумно волнуется за слабоумного мальчика, а его всё нет...
Мать высматривает его на холме, жалеет, что послала его...
Мальчик возвращается... но где он был? какая девственная красота мира и лирический ужас ветвящегося сумрака манила его к себе?
Какой непроторенной тайной жизни, сострадания и любви наполнилось его сердце, желающее умереть от ужаса мира, словно бы накрывшись, как в детстве, одеялом смерти и сна?
По этому пути не ходили ангелы и боги; он узнал о сострадании, жизни и боли то, что никогда не узнают небеса, и на слова безумной от счастья встречи Матери-Природы - милый, где, где же ты был!?, - он мог сказать словами Моллоя, словами сартровского человечества: "я всего навсего существовал".. а в дрожащем кулачке у него была бы зажата какая-то тихая радость...
Работа В. Куша
Когда благотворители предлагают вам нечто бесплатно, даром, просто так, бороться с их навязчивой идеей бесполезно, они последуют за вами на край света, держа в руках своё рвотное. Армия Спасения не лучше. От сострадания, насколько мне известно, защиты нет.
Моя жизнь, моя жизнь - иногда я говорю о ней как о чем-то уже свершившемся, иногда как о шутке, которая продолжает смешить, но она не то и не другое, ибо она одновременно и свершилась, и продолжается; существует ли в грамматике время, чтобы выразить это? Часы, которые мастер завел и, прежде чем умереть, закопал; когда-нибудь их вращающиеся колесики поведают червям о Боге.
До чего же трудно говорить о луне здраво. Она такая безмозглая, луна. Она, должно быть, вечно показывает свой зад.
Ибо во мне живут два дурака, не считая прочих; один жаждет остаться там, где он оказался, в то время как другой воображает, что чуть дальше его ждет жизнь менее ужасная. Таким образом, я никогда не был разочарован, так сказать, как бы я ни поступил. В этой области. А двух неразлучных дураков я по очереди выдвигал на первый план, чтобы каждый из них мог убедиться в своей глупости.
Утро - время скрываться. По утрам просыпаются бодрые и веселые люди, которые требуют соблюдать законы, восхищаться прекрасным и почитать справедливое. Да, с восьми-девяти часов и до полудня - самое опасное время.