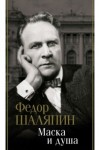Федор Шаляпин… Легендарный певец, покоривший своим голосом весь мир – Мариинский и Большой театры, Метрополитен-опера, театр Шаттле, Ковент-Гарден. Высокий, статный, с выразительными чертами лица, пронзительным взглядом, он производил неизгладимое впечатление в своих лучших трагических ролях – Мельник, Борис Годунов, Мефистофель, Дон Кихот. Шаляпин потрясал зрителей неистовым темпераментом, находил всегда точные и искренние интонации для каждого слова песни, органично и достоверно держался на...
Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человека в его жизни и труде – величайшее благо. Что не надо людям навязывать насилу счастье.
Искусство может переживать упадок, но оно вечно, как сама жизнь.
Убедить публику – значит, в сущности, хорошо ее обмануть, вернее, создать в ней такое настроение, при котором она сама охотно поддается обману, сживается с вымыслом и переживает его как некую высшую правду. Зритель отлично знает, что актер, умирающий на сцене, будет, может быть, через четверть часа в трактире пить пиво, и тем не менее от жалости его глаза увлажняются настоящими слезами.
Так убедить, так обмануть можно только тогда, когда строго соблюдено чувство художественной меры.
Есть в искусстве такие вещи, о которых словами сказать нельзя. Я думаю, что есть такие же вещи и в религии. Вот почему и об искусстве, и о религии можно говорить много, но договорить до конца невозможно. Доходишь до какой-то черты – я предпочитаю сказать: до какого-то забора, и хотя знаешь, что за этим забором лежат еще необъятные пространства, что есть на этих пространствах, объяснить нет возможности. Не хватает человеческих слов. Это переходит в область невыразимого чувства.
Можно по-разному понимать, что такое красота. Каждый может иметь на этот счет особое мнение. Но о том, что такое правда чувства, спорить нельзя. Она очевидна и осязаема. Двух правд чувства не бывает. Единственно правильным путем к красоте я поэтому признал для себя – правду.
“Когда я, в часы наших свиданий, при керосиновой лампе, вместо абажура закрытой обертком газеты, читалъ ей:
Ночевала тучка золотая
На груди утеса-великана, —
то она слушала меня с расширенными зрачками и, горя восторгом, говорила:
— Какие вы удивительные люди, вы — ученые, актеры, циркачи! Вы говорите слова, которыя я каждый день могу услышать, но никто их мне так никогда не составлял. Тучка — утес — грудь — великан, а что, кажется, проще, чем «ночевала», а вот — как это вместе красиво! Просто плакать хочется. Как вы хорошо выдумываете!..”
Я продолжаю думать и чувствовать, что свобода человека в его жизни и труде - величайшее благо. Что не надо людям навязывать насилу счастье. Не знаешь, кому какое счастье нужно.
"Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески. Не помню, кто сказал: "гений -- это прилежание". Явная гипербола, конечно. Куда как прилежен был Сальери, ведь вот даже музыку он разъял, как труп, а Реквием все-таки написал не он, а Моцарт. Но в этой гиперболе есть большая правда. Я уверен, что Моцарт, казавшийся Сальери "гулякой праздным", в действительности был чрезвычайно прилежен в музыке и над своим гениальным даром много работал."
Математическая верность музыке и самый лучший голос мертвенны до тех пор, пока математика и звук не одухотворены чувством и воображением.
Я, конечно, далек от мысли видеть в Степане Тимофеевиче Разине символический образ России. Но правда и то, что думать о характере русского человека, о судьбах России и не вспомнить о Разине – просто невозможно. Пусть он и не воплощает России, но не случайный он в ней человек, очень сродни он русской Волге… Находит иногда на русского человека разинская стихия, и чудные он тогда творит дела! Так это для меня достоверно, что часто мне кажется, что мы все – и красные, и белые, и зеленые, и синие – в одно из таких стенькиных наваждений взяли да и сыграли в разбойники, и еще как сыграли – до самозабвения! Подняли над бортом великого русского корабля прекрасную княжну, размахнулись по разински и бросили в волны… Но не персидскую княжну, на этот раз, а нашу родную мать – Россию…
Что же касается «благородных любителей искусства» – не могу надивиться одному парадоксальному явлению. Я знаю людей, которые тратят на оперу сотни тысяч долларов в год – значит, они должны искренне и глубоко любить театр. А искусство их – ersatz самый убогий. Сезон за сезоном, год за годом, в прошлый, как и в последующий, – все в их театрах трафаретно и безжизненно. И так будет через пятьдесят лет. Травиата и Травиата. Фальшивые актеры, фальшивые реноме, фальшивые декорации, фальшивые ноты – дешевка бездарного пошиба. А между тем, эти же люди тратят огромные деньги на то, чтобы приобрести подлинного Рембрандта, и с брезгливой миной отворачиваются от того, что не подлинно и не первоклассно. До сих пор не могу решить задачи – почему в картинной галерее должен быть подлинник и непременно шедевр, а в дорого же стоящем театре – подделка и третий сорт? Неужели потому, что живопись, в отличие от театра, представляет собою не только искусство, но и незыблемую валютную ценность?..
Холодному уму непостижимо то каменное спокойствие, с каким люди идут на смерть во имя своей веры
Рядом с поэзией и красотой в русской душе живут тяжкие, удручающие грехи. Грехи-то, положим, общечеловеческие - нетерпимость, зависть, злоба, жестокость - но такова уже наша странная русская натура, что в ней все, дурное и хорошее, принимает безмерные формы, сгущается до густоты необычной. Не только наши страсти и наши порывы напоминают русскую метель, когда человека закружит до темноты; не только тоска наша особенная - вязкая и непролазная; но и апатия русская - какая-то, я бы сказал, пронзительная. Сквозная пустота в нашей апатии, ни на какой европейский сплин не похожая. К ночи от такой пустоты, пожалуй, страшно делается.
Одержим был песней русский народ, и великая в нем бродила песенная хмель...
“Я, вообще, не верю в одну спасительную силу таланта, без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески.”
Это был странник. В России испокон веков были такие люди, которые куда-то шли. У них не было ни дома, ни крова, ни семьи, ни дела. Но они всегда чем-то озабочены. Не будучи цыганами, вели цыганский образ жизни. Ходили по просторной русской земле с места на место, из края в край. Блуждали по подворьям, заходили в монастыри, заглядывали в кабаки, тянулись на ярмарки. Отдыхали и спали где попало. Цель их странствований угадать было невозможно. Я убежден, что если каждого из них в отдельности спросить, куда и зачем он идет - он не ответит. Не знает. Он над этим не думал. Казалось, что они чего-то ищут. Казалось, что в их душах жило смутное представление о неведомом каком-то крае, где жизнь праведнее и лучше. Может быть, они от чего-то бегут. Но если бегут, то, конечно, от тоски - это совсем особенной, непонятной, невыразимой, иногда беспричинной русской тоски.
Но в особенности прельстили меня слова, которые они произносили. И не сами слова - в отдельности я все их знал, это были те обыкновенные слова, которые я слышал в жизни; прельщали меня волнующие, необыкновенные фразы, которые эти люди из слов слагали. Во фразах отражалась какая-то человеческая мысль, удивительные в них звучали ноты новых человеческих чувств. То, главным образом, было чудесно, что знакомые слова издавали незнакомый аромат
Никакой грим не поможет актеру создать живой индивидуальный образ, если из души его не просачиваются наружу этому лицу присущие духовные краски - грим психологический.
Мир дворцам, война хижинам.
О людях, ставших с ночи на утро властителями России, я имел весьма слабое понятие. В частности, я не знал, что такое Ленин. Мне вообще кажется, что исторические "фигуры" складываются либо тогда, когда их везут на эшафот, либо тогда, когда они посылают на эшафот других людей.
Я не могу быть до такой степени слепым и пристрастным, чтобы не заметить, что в самой глубокой основе большевистского движения лежало какое-то стремление к действительному переустройству жизни на более справедливых, как казалось Ленину и некоторым другим его сподвижникам, началах. Не простые же это были, в конце концов, «воры и супостаты». Беда же была в том, что наши российские строители никак не могли унизить себя до того, чтобы задумать обыкновенное человеческое здание по разумному человеческому плану, а непременно желали построить «башню до небес» – Вавилонскую башню!.. Не могли они удовлетвориться обыкновенным здоровым и бодрым шагом, каким человек идет на работу, каким он с работы возвращается домой – они должны рвануться в будущее семимильными шагами… «Отречемся от старого мира» – и вот, надо сейчас же вымести старый мир так основательно, чтобы не осталось ни корня, ни пылинки.
Попробуйте убедить в чем-нибудь бухгалтера! Вы его не убедите никакими человеческими резонами - он на цифрах стоит. У него выкладка.
Ты ничего не понимаешь. Шестикрылый Серафим, дуралей, пролетариату не нужен. Ему нужна шестистволка... Защищаца!
У вас, оперных артистов, всегда так. Как только роль требует проявления какого-нибудь характера, она начинает вам не подходить. Тебе не подходит роль Мельника, а я думаю, что ты не подходишь как следует к роли.
Художественная правда бесповоротно уже сделалась моим идеалом в искусстве.