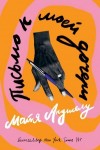Цитаты из книг
There is no greater agony than bearing an untold story inside you.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Человек, плохо представляющий себе, из каких факторов состоит угнетение, предположил бы, что новоприбывшие чернокожие отнесутся с сочувствием к согнанным с мест японцам и даже окажут им помощь. Особенно в силу того, что они (чернокожие) на собственном опыте знали, что такое концлагерь, поскольку много веков жили в рабстве на плантациях, а потом — в хижинах для батраков. Однако ощущение единства отсутствовало напрочь.
Новоприбывших негров зазвали сюда с захиревших сельскохозяйственных земель Джорджии и Миссисипи наёмщики с военных заводов. Возможность жить в двух- или трехэтажных многоквартирных домах (они мгновенно превратились в трущобы), получать в неделю двух-, а то и трехзначную сумму их полностью ослепила. Они впервые в жизни смогли возомнить себя боссами, богатеями. Могли позволить себе платить другим, чтобы те их обслуживали: прачкам, таксистам, официантам и пр. Кораблестроительные верфи и заводы по производству боеприпасов, возникшие и расцветшие с началом войны, говорили этим людям о том, что они нужны и даже востребованы. Для них это было совершенно неведомое, но очень приятное состояние. С какой же радости они стали бы делить свою новообретенную, кружащую головы значимость с представителями расы, о существовании которой они раньше и не подозревали?
Еще одна причина равнодушия к выселению японцев была менее очевидной, но ощущалась на более глубоком уровне. Японцы не были белыми. Глаза, язык и традиции противоречили белому цвету их кожи и доказывали их темнокожим преемникам, что поскольку их можно не бояться, то и считаться с ними не стоит. Все эти представления рождались подсознательно.
Никто из членов моей семьи и друзей ни разу не упомянул про исчезнувших японцев. Как будто они никогда не жили в нашем доме и ничем тут не владели.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Понятное дело, я верила в призраков, оборотней и «нечисть». Меня воспитывала ультрарелигиозная бабушка, негритянка с Юга; не вырасти я суеверной, это было бы ненормально.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Они перекидывались фразами, точно мячиками для пинг-понга — те всякий раз пролетали над сеткой и оказывались на стороне соперника. Смысл их разговора утратился окончательно, осталась одна лишь пикировка. Обмен репликами принял упорядоченность группового танца, приобрел отрывистость, с каким хлопает по ветру выстиранное в понедельник белье: сперва к востоку, потом к западу, с одной целью — выбить из ткани всю сырость.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Оуэнс и Коричневый Бомбардировщик в нашем мире считались великими героями, но с какой стати школьный чиновник из этой дыры для белых — Литтл-Рок — вздумал нам навязывать, что эти двое — наши единственные герои? С какой стати он заявляет, что Генри Риду, чтобы стать ученым, нужно трудиться, как Джорджу Вашингтону Карверу: чистить обувь, зарабатывая на плохонький микроскоп? Бейли, понятное дело, всегда был слишком мал ростом, чтобы стать спортсменом, — так какому же конкретному ангелу, приклеенному к какой должности в округе, теперь решать, что, если брат мой надумает стать юристом, ему придется сперва оплатить пошлину за цвет своей кожи: пособирать хлопок, помотыжить кукурузу, поучиться на заочном отделении лет этак двадцать?
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Вокруг шуршали, переминались с ноги на ногу, а потом Генри Рид произнес от имени класса речь «Быть или не быть». Он что, пропустил слова белых мимо ушей? Быть у нас не получится, так что и задаваться этим вопросом — пустая трата времени. Генри произносил слова отчетливо, звучно. Я боялась на него взглянуть. Он что, ничего не понял? Не для чернокожих «решимости природный цвет» — мир считает, что у нас вообще нет ни решимости, ни разума, и не стесняется говорить об этом вслух. «Яростная судьба»? Полный бред. Когда церемония закончится, придется сказать Генри Риду пару слов. Если ему, конечно, не все равно. Не «трудность», Генри, — «тупик». «Вот в чем тупик». В цвете нашей кожи.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Я — живой человек, — любила она повторять, — а потому ничто человеческое мне не чуждо».
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
чистоплотность сродни богобоязненности, а грязь, напротив, — источник всех несчастий.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Тот факт, что многие взрослые афроамериканки становятся сильными натурами, часто вызывает изумление, отвращение и даже агрессию. В нем редко усматривают неизбежный итог тяжкой борьбы за выживание, при том что он заслуживает если не восторженного признания, то хотя бы уважения.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Ужасно быть чернокожей и не иметь права распоряжаться своей жизнью. Жестоко быть молодой, когда тебя уже выучили сидеть смирно и выслушивать обвинения против собственного цвета кожи, не имея возможности защититься
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Любые знания — это валюта, её стоимость зависит от состояния рынка.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Надейся на лучшее, готовься к худшему — а ничему в промежутке не удивляйся.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Их так и грела праведность бедняков и исключительное положение угнетенных. Пусть у белых есть деньги, власть, сегрегация, сарказм, огромные дома, школы, газоны как ковры и книги, а самое-самое главное — пусть у них есть их белая кожа. Пусть я буду робким и низменным, пусть в меня плюют, пусть меня притесняют на этом кратком этапе — зато потом не придется целую вечность поджариваться в адском пламени. Никто и никогда не признавался в том, что христианам и прочим любвеобильным людям нравится представлять себе, как Дьявол будет до скончания времен вертеть их обидчиков на своем вертеле над пылающим огнем, в серной вони.
Но именно так сказано в Библии, а она не ошибается.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Мое образование и образование чернокожих из моего круга сильно отличалось от образования моих белых одноклассников. В школе все мы изучали, что такое причастия прошедшего времени, но дома чернокожие учились коверкать грамматику и упрощать синтаксис. Мы прекрасно осознавали пропасть, лежавшую между письменным словом и живой речью. Мы учились выныривать из одного речевого потока и кидаться в другой, даже не замечая этого усилия. В школе, в определенных обстоятельствах, мы могли сказать: «В этом нет ничего необычного», но на улице в той же ситуации легко могли отреагировать: «Ишь ты вона как».
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
В мозгах у белых и чернокожих истории о нарушении закона взвешиваются на разных весах. Мелкие правонарушения негритянская община осуждает, при этом многие ее члены тоскливо гадают, почему чернокожие так редко обворовывают банки, присваивают чужие деньги и проворачивают махинации с профсоюзными фондами. «Мы — жертвы самого масштабного грабежа во всей человеческой истории. Жизнь стремится к равновесию. Так что теперь нам не зазорно грабить по мелочи». Это убеждение особенно близко тем, кто не в состоянии конкурировать со своими согражданами на законном основании.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
За месяц мой образ мыслей изменился настолько, что я сама себя с трудом узнавала. Безусловное приятие со стороны сверстников не оставило и следа от прежней неуверенности. Странное дело, но эти беспризорники, пена военной лихорадки, показали мне, что такое человеческое братство. После того как мне довелось разыскивать на продажу небитые бутылки вместе с белой девчонкой из Миссури, мексиканкой из Лос-Анджелеса и негритянкой из Оклахомы, я никогда уже не ощущала себя изгоем человеческой расы. Отсутствие критики — оно было обычным делом в нашей разношерстной компании — произвело на меня сильное впечатление и на всю жизнь задало для меня тональность терпимости.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Убедить маму оказалось, как я и предчувствовала, несложно. Мир менялся так стремительно, в нем зарабатывали столько денег, столько людей погибало в Гуаме и в Германии, что целые орды незнакомцев в одночасье становились добрыми друзьями. Жизнь сделалась дешевой, смерть — и вовсе бесплатной. Где было маме взять время на мысли о моем образовании?
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Сама того не желая, из человека, не ведающего о собственном неведении, я превратилась человека, сознающего свое осознание. Худшей частью этого осознания было то, что я сама не понимала, что именно я осознаю. Я знала, что знаю совсем мало, но была убеждена: тому, что мне необходимо узнать, в Школе Джорджа Вашингтона меня не научат.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Малограмотные белокожие южане в полной сохранности доставили на Запад из Арканзаса и из болот Джорджии все свои предрассудки. Бывшие фермеры-чернокожие не оставили дома недоверие и страх перед белыми — то, что история внушила им на своих трагических уроках. Представители двух этих общин вынуждены были трудиться бок о бок на военных заводах, взаимная неприязнь нарастала и нарывами вскрывалась на лице города.
Любой уроженец Сан-Франциско готов был поклясться Золотыми Воротами, что в их охлажденном кондиционерами городе нет никакого расизма. Увы, он бы кардинально ошибся.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
…белые у нас в городке такие упертые, что чернокожим даже ванильное мороженое нельзя покупать
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс второй половины XX века. «Поэтому птица в неволе поет» I Know Why the Caged Bird Sings – главная книга Анджелу – повествует о ее взрослении на полном предрассудков юге США. Отданная вместе с братом на попечение бабушки, Майя с детства сталкивается с непонятными ей, ребенку, неприятием и расизмом и в восемь лет подвергается насилию, с последствиями которого будет вынуждена мириться всю жизнь. Поэтичная и мощная, «Поэтому птица в...
Всеми силами старайся менять то, что тебе не нравится. Если изменить невозможно, измени образ мысли.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс XX века. Ее книга «Письмо к моей дочери» (Letter to My Daughter) выходит за рамки жанров и представляет собой обращение к миллионам женщин, которых она считает своими дочерьми. Полная мудрых завораживающих очерков, эта книга рассказывает о пути, который привел Анджелу на пьедестал американской литературы: об усвоенных жизненных уроках и силе духа; о воспитании бабушкой на юге США; о пережитом насилии; о религии; об опыте секса без...
Наибольшую безопасность мы ощущаем тогда, когда уходим в себя и отыскиваем там дом – одно из тех мест, где всё родное и своё, а возможно, даже и единственное такое место»э
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс XX века. Ее книга «Письмо к моей дочери» (Letter to My Daughter) выходит за рамки жанров и представляет собой обращение к миллионам женщин, которых она считает своими дочерьми. Полная мудрых завораживающих очерков, эта книга рассказывает о пути, который привел Анджелу на пьедестал американской литературы: об усвоенных жизненных уроках и силе духа; о воспитании бабушкой на юге США; о пережитом насилии; о религии; об опыте секса без...
Полная простота есть верх изощренности.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс XX века. Ее книга «Письмо к моей дочери» (Letter to My Daughter) выходит за рамки жанров и представляет собой обращение к миллионам женщин, которых она считает своими дочерьми. Полная мудрых завораживающих очерков, эта книга рассказывает о пути, который привел Анджелу на пьедестал американской литературы: об усвоенных жизненных уроках и силе духа; о воспитании бабушкой на юге США; о пережитом насилии; о религии; об опыте секса без...
Как и все матери, она чувствовала себя виноватой за все страшное, что случалось с ее детьми.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс XX века. Ее книга «Письмо к моей дочери» (Letter to My Daughter) выходит за рамки жанров и представляет собой обращение к миллионам женщин, которых она считает своими дочерьми. Полная мудрых завораживающих очерков, эта книга рассказывает о пути, который привел Анджелу на пьедестал американской литературы: об усвоенных жизненных уроках и силе духа; о воспитании бабушкой на юге США; о пережитом насилии; о религии; об опыте секса без...
Никогда не ной. Нытьё - это способ подать мерзавцу знак, что поблизости появилась жертва.
Майя Анджелу – одна из главных американских писательниц и поэтесс XX века. Ее книга «Письмо к моей дочери» (Letter to My Daughter) выходит за рамки жанров и представляет собой обращение к миллионам женщин, которых она считает своими дочерьми. Полная мудрых завораживающих очерков, эта книга рассказывает о пути, который привел Анджелу на пьедестал американской литературы: об усвоенных жизненных уроках и силе духа; о воспитании бабушкой на юге США; о пережитом насилии; о религии; об опыте секса без...