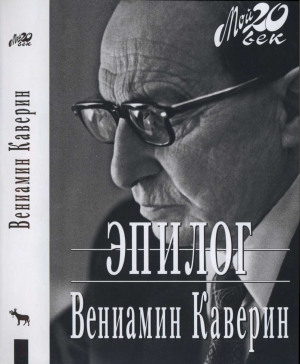Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.
Свершилось! В серии "Классика в вузе" наряду с Пелевиным, Толстой и Франсуазой Саган вышли-таки мемуары Вениамина Каверина. Вышли - и вошли. Вошли в сознание, воспитанное "Двумя капитанами", "Верлиокой" и сказками города Немухина, и плотно, радостно поселились в нём с первой же главы. Глава называется "Засада", но почему-то на память назойливо лезет "мышеловка" из "Трёх мушкетёров". Вот в такую же мышеловку превратили господа чекисты квартиру Юрия Тынянова и его жены Елены (сестры Каверина, заметьте), чтобы поймать третьего литератора - Виктора Шкловского. При начале операции в квартире было пятеро плюс кошка. При окончании - двадцать три человека, в их числе почтальон, нищий, собиравший на церковь, и бурная еврейская дама, которая забыла выключить примус... И кошка. Кончилось всё, как ни странно, благополучно.
- Ну вот что, я снимаю засаду. А ты знаешь, кого мы у тебя искали?
- Я с вами на брудершафт не пил, - ответил Юрий. Комиссар поморгал: очевидно, слово "Брудершафт" слегка его отрезвило.
- Я гимназии не кончал, - покачнувшись, возразил он.
- Очень жаль, - отозвался Юрий.
Вот так "Эпилог" и воспринимается - доля весёлого, водевильного сумбура, доля остроумия, доля интеллигентского критицизма ["Очень жаль!"], доля немухинского бытового волшебства, доля скорби по ушедшим - и надо всеми этими долями тягостная масса, концентрированное тревожное ожидание. Каково это - более тридцати лет провести под грозовыми тучами? Нет, никого из близких, по счастью, не убило молнией. День прожит, и слава Богу. Под тучами гуляли, влюблялись, слушали оперу, ходили в гости и рожали детей. Любовь к ребенку — ведь это же ничего. Это можно. А, кроме того, гостеприимство — это ведь тоже вполне можно. Зачем же вы смотрите на меня так страшно? (Закрывает лицо руками.) [Евгений Шварц. Дракон.]
Потому что это невыносимо читать. Не страшно - Каверин никого не запугивает. Не тошно - Каверин никого не судит. А не-вы-но-си-мо. Как вешался Тынянов, а жена вытащила его из петли, и у него потом был смущённо-виноватый вид, а у неё смущённо-негодующий. Как мой любимый филолог Наум Берковский планомерно довёл до самоубийства моего любимого писателя Л. Добычина. Как сам Каверин носил на Лубянку ходатайство за своего брата Льва, которого обвиняли в отравлении колодцев, и курьерша, забравшая ходатайство, была в штатском и беременная на сносях. Беременная на сносях женщина, вызывающая невыдуманный мистический ужас.
О чём он, "Эпилог"? По мнению самого автора - о теневой стороне нашей литературы. Мне эта сторона кажется по-своему светлой. Талант есть талант, даже если его губят или он сам губит себя, продаваясь за чечевичную похлёбку почестей и материальных благ. Талант есть свет?
И да, дорогие единомышленники, - сколько же всего я не читала! Ничего практически. После "Эпилога" хочется познакомиться со всеми, кто в нём упомянут: прочесть и Лунца, и Эрдмана, и Вс. Иванова, и Шкловского, и Вагинова, и Лидию Чуковскую, и Елизавету Полонскую, и даже Тихонова, Федина и Фадеева, нарисованных, прямо скажем, нелицеприятно. Только вот Кожевникова нимало не хочу читать, ну его многотомные труды в болото. Из имён, из библиотечных формуляров они стали для меня личностями, и в этом главная заслуга "Эпилога". А также непременно, непременно перечитать: Пастернака и Булгакова, Тынянова и Паустовского, Зощенко и Шварца, Твардовского и Олешу.
Подытожить свои впечатления о последней работе Вениамина Каверина могу лишь одним словом: благодарность.
Свершилось! В серии "Классика в вузе" наряду с Пелевиным, Толстой и Франсуазой Саган вышли-таки мемуары Вениамина Каверина. Вышли - и вошли. Вошли в сознание, воспитанное "Двумя капитанами", "Верлиокой" и сказками города Немухина, и плотно, радостно поселились в нём с первой же главы. Глава называется "Засада", но почему-то на память назойливо лезет "мышеловка" из "Трёх мушкетёров". Вот в такую же мышеловку превратили господа чекисты квартиру Юрия Тынянова и его жены Елены (сестры Каверина, заметьте), чтобы поймать третьего литератора - Виктора Шкловского. При начале операции в квартире было пятеро плюс кошка. При окончании - двадцать три человека, в их числе почтальон, нищий, собиравший на церковь, и бурная еврейская дама, которая забыла выключить примус... И кошка. Кончилось всё, как ни странно, благополучно.
- Ну вот что, я снимаю засаду. А ты знаешь, кого мы у тебя искали?
- Я с вами на брудершафт не пил, - ответил Юрий. Комиссар поморгал: очевидно, слово "Брудершафт" слегка его отрезвило.
- Я гимназии не кончал, - покачнувшись, возразил он.
- Очень жаль, - отозвался Юрий.
Вот так "Эпилог" и воспринимается - доля весёлого, водевильного сумбура, доля остроумия, доля интеллигентского критицизма ["Очень жаль!"], доля немухинского бытового волшебства, доля скорби по ушедшим - и надо всеми этими долями тягостная масса, концентрированное тревожное ожидание. Каково это - более тридцати лет провести под грозовыми тучами? Нет, никого из близких, по счастью, не убило молнией. День прожит, и слава Богу. Под тучами гуляли, влюблялись, слушали оперу, ходили в гости и рожали детей. Любовь к ребенку — ведь это же ничего. Это можно. А, кроме того, гостеприимство — это ведь тоже вполне можно. Зачем же вы смотрите на меня так страшно? (Закрывает лицо руками.) [Евгений Шварц. Дракон.]
Потому что это невыносимо читать. Не страшно - Каверин никого не запугивает. Не тошно - Каверин никого не судит. А не-вы-но-си-мо. Как вешался Тынянов, а жена вытащила его из петли, и у него потом был смущённо-виноватый вид, а у неё смущённо-негодующий. Как мой любимый филолог Наум Берковский планомерно довёл до самоубийства моего любимого писателя Л. Добычина. Как сам Каверин носил на Лубянку ходатайство за своего брата Льва, которого обвиняли в отравлении колодцев, и курьерша, забравшая ходатайство, была в штатском и беременная на сносях. Беременная на сносях женщина, вызывающая невыдуманный мистический ужас.
О чём он, "Эпилог"? По мнению самого автора - о теневой стороне нашей литературы. Мне эта сторона кажется по-своему светлой. Талант есть талант, даже если его губят или он сам губит себя, продаваясь за чечевичную похлёбку почестей и материальных благ. Талант есть свет?
И да, дорогие единомышленники, - сколько же всего я не читала! Ничего практически. После "Эпилога" хочется познакомиться со всеми, кто в нём упомянут: прочесть и Лунца, и Эрдмана, и Вс. Иванова, и Шкловского, и Вагинова, и Лидию Чуковскую, и Елизавету Полонскую, и даже Тихонова, Федина и Фадеева, нарисованных, прямо скажем, нелицеприятно. Только вот Кожевникова нимало не хочу читать, ну его многотомные труды в болото. Из имён, из библиотечных формуляров они стали для меня личностями, и в этом главная заслуга "Эпилога". А также непременно, непременно перечитать: Пастернака и Булгакова, Тынянова и Паустовского, Зощенко и Шварца, Твардовского и Олешу.
Подытожить свои впечатления о последней работе Вениамина Каверина могу лишь одним словом: благодарность.
Прочитав эту книгу, я поняла, что ужасно соскучилась по русской литературе. Что-то мое последнее чтение было ориентировано на зарубежную литературу. Книга напомнила мне о том, какие чудесные и талантливые у нас писатели и их книги. Тем более, что их творческий путь лежал сквозь терни. Не было легко и просто никому. Истинное оставалось в тени, вернее, вынуждено было оставаться.
"Это не просто воспоминания, - замечал Каверин, - это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы, о деформации таланта, о компромиссе с властью, о стремлении этому компромиссу противостоять".
"В книге, в частности, идет речь о попытке НКВД завербовать Каверина в качестве литературного стукача осенью 1941 года (больше им делать было нечего в момент, когда замкнулась блокада Ленинграда, а Гудериан наступал на Москву). Идет речь о подготовке депортации евреев в период "дела врачей" и связанной с этим попытке состряпать письмо "видных евреев" с просьбой расстрелять "врачей-убийц", о травле Солженицына, о разгроме "Нового Мира" Твардовского. И все это описано участником событий, да еще каверинским пером!"
В книге, помимо описаний, Каверин дает возможность познакомиться с документами того времени: протоколы совещаний союза писателей, письма, выписки и т.д. Уникальное чтение, очень познавательное.
Сердце от боли сжимается: а ведь все могло быть иначе, не так жестоко.....
Невероятно интересные мемуары. Я бы даже сказала, что это не просто воспоминания талантливого писателя о жизни, друзьях, недругах, литературе и т.д., а прямо энциклопедия советской литературы в лучшем смысле этого слова. Вениамин Каверин показался мне человеком категоричным, и уж если ему кто-то не угодил, то камня на камне от него не останется. Влетело по полной и Виктору Шкловскому, и Николаю Тихонову, и Константину Федину. У Каверина вообще наблюдается явное неприятие всего, что связано с бюрократией, преклонением перед властью и т.д. Но это лишь одна его сторона. Он умел любить, ценить, восторгаться талантливыми людьми (столько хороших слов сказано Кавериным о Пастернаке, Солженицыне, Зощенко, Тянынове). Впервые услышала имя Леонида Добычина, жизнь которого сложилась трагически, в большинстве своем именно из-за того, что он жил в СССР в годы сталинизма. Очень интересно пишет Каверин о попытках московских писателей издать альманах "Литературная Москва", о сложностях, с которыми они сталкивались и о том, чем же вся эта история закончилась.
Читала долго, растягивая удовольствие и не выпуская из рук блокнота, в который записывала авторов и их произведения, которые выделял в своих воспоминаниях Каверин. Обязательно их прочитаю.
Книга довольно грустная, хотя судьбу ее можно в определенном смысле назвать счастливой. Вениамин Каверин родился в 1902 году, входил в группу "Серапионовы братья", близко знал многих писателей того времени, да и вообще активно вращался в писательской среде в течение всего 20-го века. Живой свидетель многих литературных и исторических событий, он написал несколько документальных книг, но даже во времена оттепели не все факты и мнения можно было опубликовать; так что какая-то часть написанного всегда оставалась "в столе". И вот в 1989 выходит эта книга, "Эпилог", где Каверин наконец-то смог высказать все, что накопилось, рассказать обо всем, о чем умалчивалось. Писатель умер в 1989 году.
Казалось бы, во времена перестройки было сказано и написано столько, что ко всем этим рассказам об ужасах сталинских времен и мутности брежневских безвремений добавить уже нечего. Каверинская книга читается нелегко, в ней много лишних подробностей и много попыток объяснить тот или иной поступок из своей биографии, потому что автору, конечно же, приходилось идти на сделки со своей совестью, чтобы не только выжить, но и печататься. Но тем не менее книга - живое свидетельство истории, а в тексте находятся очень выразительные страницы, живые моменты, которые поражают и снова и снова заставляют задуматься о тех суровых временах.
Вот Лев Каверин, брат писателя, талантливый биолог, посажен в тюрьму. С огромным трудом его жена добивается свидания с ним, а он с огромным риском передает ей записку. И что же? В ней не ласковые слова, не уверения в своей невиновности, а рабочие материалы на тему о вирусном происхождении рака, над которой он упорно продолжает работать в камере.
Вот Николай Тихонов, который мрачно замечает: "Раньше нам не давали говорить, а теперь нам не дают молчать" - и идет подписывать очередное письмо во славу очередных партийных инициатив.
Вот один из литературных чиновников В.Ермилов, который настолько безжалостно и бездушно гробил литературу и писателей, что после его смерти никто из писателей - никто! даже прихлебатели, уж которых у него было наверняка множество, - никто не захотел добровольно нести его гроб...
Все это - история нашей родной русской литературы...
Уже прочитано несколько подобных книг о литературе и писателях ХХ века (Рыбаков, Олеша, Катаев, Паустовский). Эта книга самая нудная их всех. Ощущение, будто ушат помоев вылили на авторов, а заодно и на читателя. Сборник сплетен: одни писатели хорошие, другие плохие, одни талантливые, другие нет.
Каждый автор по-своему воспринимает других авторов, их произведения. У каждого писателя сложились свои отношения с другими писателями. И вот они либо хвалят, либо ругают друг друга. Странно, что Каверин не упомянул в своей книге Анатолия Рыбакова (ни разу!), а ведь тот был заметным писателем ХХ века, писавшем, в том числе и о сталинских репрессиях, которым много текста уделили и Каверин в своей книге. Зато Рыбаков в "Романе-воспоминании" нелестно отзывался от том же Каверине.
Валентина Катаева Каверин прополоскал, назвав лживым и предателем. Восторженно отозвался о Паустовском, Пастернаке, Булгакове, Лунце, Солженицыне. Часть книге посвящена Шкловскому, Федину, Фадееву, Твардовскому, и некоторым другим авторам.
Все же я воспринимаю оценку Каверина лишь как сугубо его личную, необъективную. Общую картину надо складывать самой, прочитав как можно больше мемуаров. Да и то вряд ли она будет достаточно точной. Удивительно, насколько оценка у всех автором разная!
Я надеялась, что в "Эпилоге" найду историю создания "Двух капитанов" - романа, который очень люблю. Но Каверин уделил ему весьма мало внимания. Больше текста посвящено "Скандалисту" и "Открытой книге".
Язык нудный, сухой. Читать было неинтересно. Не ожидала такого "Эпилога" от Каверина.
... нет более верного способа усугубить в сотню раз интерес к прошлому, чем попытаться скрыть это прошлое или исказить его, что делается, в общем, весьма бездарно.
Самоубийством Маяковского и Пастернак, и Тынянов были потрясены глубоко, болезненно и остро. Это был выстрел, угодивший в самое сердце поколения. И Пастернак первый, может быть, еще вглядываясь в мертвое лицо поэта, понял глубину одиночества, смотрящего на Маяковского со страниц его рукописей — требовательно, строго.
Можно смело назвать гениальными страницы «Охранной грамоты», посвященные «той из века в век повторяющейся странности, которую можно назвать последним годом поэта». Пересказать их трудно. Проникнутые невозможностью предсказать будущее, они вопреки этой невозможности поднимаются до высоты пророчества, объединяющего поэтов всех времен и народов.
В них мертвый Маяковский и государство поставлены рядом. Оно как бы пришло отдать последний долг покойному, так преданно ему служившему, и Пастернак, представляя себе жизнь великого сверстника, видит ее прошедшей «вбок от окна в виде какой-то тихой, обсаженной деревьями улицы вроде Поварской. И первым на ней, у самой стены, стало наше государство, наше ломящееся в века и навсегда принятое в них, небывалое, невозможное государство. Оно стояло внизу, его можно было кликнуть и взять за руку. В своей осязательной необычайности оно чем-то напоминало покойного. Связь между обоими была так разительна, что они могли показаться близнецами.
И тогда я с той же осязательностью подумал, что этот человек был, собственно, этому гражданству едва ли не единственным гражданином».
Придет время, когда не кто иной, как текстологи, будут определять ту или иную степень «свободы» в литературе. Свободы нет. Но в «несвободе» существуют оттенки, окрашивающие подчас целые десятилетия. В тридцатых годах мы, потрясенные холодным цинизмом чиновников, сдавленные со всех сторон — лицемерием, нравственным развратом, страхом, — были заняты, в сущности, только поисками пути, на котором можно было спасти «собственно литературу».
Одни, как Евгений Шварц, действовали почти в открытую, смело рассчитывая на тупость ждановско-щербаковской бюрократии в искусстве.
Где-то в подполье, в нищете, в тесноте работал отринутый, распятый, проживший апостольскую жизнь Андрей Платонов.
О том, что Булгаков пишет «Мастера и Маргариту», знали десять или пятнадцать человек. Если бы этот роман можно было запомнить наизусть, он сжег бы его, как жгла над пепельницей свои стихи Анна Ахматова.
Самиздата не было. Были отдельные отчаянные смельчаки, как Лидия Чуковская, написавшая в 1938 году свою «Софью Петровну». Шло, разрастаясь с каждым годом, уничтожение частных архивов.
В 1937 году, когда был процесс по делу Якира, Тухачевского и других, среди писателей собирались подписи, одобрявшие смертный приговор. Пастернак отказался.
— Видите ли, если я это сделаю, мне придется подписать, когда и вас будут расстреливать, - будто бы сказал он своему посетителю.
Это кажется странным, но я редко остаюсь наедине с собой и даже если в комнате нет никого, кроме меня, это еще не значит, что я способен увидеть себя, свое дело и свое прошлое спокойно и беспристрастно. Лишь в последние годы мне удавалось время от времени добираться до самого себя. Нужно многое, чтобы пробиться через жалость к себе, через легкость самооправдания, но зато если это удается, и выигрываешь многое. Полузнание или даже четвертьзнание самого себя — одно из самых неодолимых последствий пережитого.