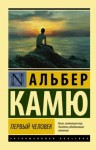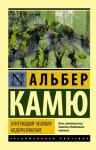Цитаты из книг
- Утешайте себя тем, что ему не пришлось стареть. Его миновала эта медленная пытка. - Вместе с изрядным количеством радостей. - Да. Вы любите жизнь. Да и как иначе, вы ведь только в нее и верите.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Нищета – это крепость без подъемного моста.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
… война – это зло, ибо победа рождает не менее горькое чувство, чем поражение.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
На завтра она вернулась к своим серым и черным платьям, к строгой и неприметной одежде бедняков. А Жак находил ее по-прежнему красивой, даже красивее, чем раньше, ибо она выглядела теперь еще более отрешенной и рассеянной, навсегда замкнувшись в своей нищете, одиночестве и ожидании надвигающейся старости.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
(...) Тем, кого любишь, нельзя лгать в серьезных вещах, иначе невозможно будет дальше жить с ними и продолжать их любить.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
(...) Щедрость всегда легче дается тому, у кого ничего нет. Мало кто остается расточительным, получив для этого возможность.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Память у бедняков вообще не так богата, как у людей состоятельных, у них меньше вех в пространстве, поскольку они редко покидают места, где живут, меньше вех во времени, так как жизнь у них течет серо и однообразно. Существует, конечно, память сердца, которая считается самой надежной, но сердце изнашивается от труда и горя и под бременем усталости становится забывчивым. Утраченное время не исчезает бесследно только у богатых. У бедных оно оставляет лишь размытые следы на пути к смерти. К тому же, чтобы вынести эту жизнь, лучше поменьше вспоминать, придерживаться течения дней, час за часом...
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
- Есть люди, которые служат оправданием этому миру, помогают жить одним своим присутсвием. - Да, но и они умирают.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
В общем, так мы дойдем до первого убийцы, его, знаете ли, звали Каин, и с тех пор война не прекращается. Люди ужасны, особенно под этим жестоким солнцем.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Я люблю и чту очень немногих. К остальным я постыдно равнодушен. Но уж если я кого-то люблю, то ни я сам, ни тем более эти люди не в силах этого изменить. Мне понадобились годы, чтобы понять это; теперь я это знаю.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Так называемый скептицизм новых поколений — ложь. С каких пор честный человек, отказывающийся верить лжецу, называется скептиком?
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Так он впервые узнал, что война — это зло, ибо победа рождает не менее горькое чувство, чем поражение.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Важна и тема актерства. В самых тяжких горестях нас спасает чувство, что мы одиноки и всеми покинуты, но не до конца, ибо при этом «другие» как бы «смотрят» на нас в нашем несчастье. В этом смысле, можно иногда назвать счастливыми минуты беспредельной печали, когда чувство собственной покинутости переполняет и возвышает нас. И с этой точки зрения, счастье зачастую есть умиление собственным несчастьем.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Есть люди, которые служат оправданием этому миру, помогают жить одним своим присутствием.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Он никогда не слышал, чтобы она о ком-то говорила плохо, иногда только могла сказать, что какая-нибудь из сестрер или теток была с ней неприветлива или держала себя "гордо". Но зато он редко слышал и чтобы она от души смеялась. Теперь она смеялась чаще, с тех пор как бросила работать и дети взяли на себя ее содержание.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
"Молодость - это прежде всего богатство возможностей".
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
...честь нашего мира живет среди угнетенных, а не среди власть имущих. Они- его бесчестье.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Все мы подвержены ей в той или иной мере, причем отдаемся ей с наслаждением, и только она делает наш мир переносимым, ибо это есть влечение к красоте.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Только школа давала Жаку и Пьеру эти радости. Наверно, их привлекало в ней то, чего им не хватало дома, где бедность и невежество делали жизнь тяготной и однообразной, как бы наглухо закрытой со всех сторон. Нищета - это крепость без поъемного моста.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
В общем, он хотел, чтобы женщины были такими, каким он не был сам.
А.Камю — один из крупнейших прозаиков XX века, автор романов "Посторонний", "Чума", "Падение", лауреат Нобелевской премии, присужденной ему за произведения, которые "с чрезвычайной проницательностью осветили проблемы совести в нашу эпоху".
"Первый человек" — незавершенный роман писателя, который после его смерти в автокатастрофе пролежал под спудом треть века. По выходе в свет роман имел ошеломляющий успех. Автобиографичен
Заметили вы, что встречаются люди, которые по заповедям своей религии должны прощать и действительно прощают обиды, но никогда их не забывают?
«Падение» — произведение позднего Камю, отразившее существенные особенности его творческой эволюции. Повесть представляет собой исповедь «ложного пророка», человека умного, но бесчестного, пытающегося собственный нравственный проступок оправдать всеобщей, по его убеждению, низостью и порочностью. Его главная забота — оправдать себя, а главное качество, неспособность любить. В «Падении» Камю учиняет расправу над собственным мировоззрением. Впервые на русском языке повесть опубликована в 1969...
Добродетель умирает, чтобы тут же возродиться в еще более грозном обличье. И вопиет на всех перекрестках о своем неумолимом милосердии, о той любви к дальнему, что сделала посмешище из современного гуманизма. В своей неумолимости добродетель эта способна теперь производить только разрушения.
В эту книгу вошли два произведения Камю, совершенно разные по жанру, но в равной степени значимые как для его творчества, так и для французского экзистенциализма в целом. Что может объединять эссе, написанное на стыке литературоведения и философии, и пьесу, являющуюся современной трагедией рока? Одна из главных идей Камю, положенная им в основу его писательской и философской экзистенциалистской концепции, — идея бунта. Бунта, пусть трижды обреченного на неудачу, но побуждающего человека,...
Страх сковывает Европу, населенную призраками да машинами. В промежутке между двумя кровопролитными войнами в глубине подземелий возводятся эшафоты. Палачи в обличье гуманистов в молчании справляют там свой новый культ. Чей вопль их потревожит?
В эту книгу вошли два произведения Камю, совершенно разные по жанру, но в равной степени значимые как для его творчества, так и для французского экзистенциализма в целом. Что может объединять эссе, написанное на стыке литературоведения и философии, и пьесу, являющуюся современной трагедией рока? Одна из главных идей Камю, положенная им в основу его писательской и философской экзистенциалистской концепции, — идея бунта. Бунта, пусть трижды обреченного на неудачу, но побуждающего человека,...
В древние времена кровавое убийство вызывало, по меньшей мере, священный ужас, освящавший, таким образом, цену жизни. А в нашу эпоху, напротив, приговор справедлив именно тогда, когда наводит на мысль о его недостаточной кровавости.
В эту книгу вошли два произведения Камю, совершенно разные по жанру, но в равной степени значимые как для его творчества, так и для французского экзистенциализма в целом. Что может объединять эссе, написанное на стыке литературоведения и философии, и пьесу, являющуюся современной трагедией рока? Одна из главных идей Камю, положенная им в основу его писательской и философской экзистенциалистской концепции, — идея бунта. Бунта, пусть трижды обреченного на неудачу, но побуждающего человека,...
Кровь сделалась незримой, она уже не хлещет прямо в лицо нашим фарисеям.
В эту книгу вошли два произведения Камю, совершенно разные по жанру, но в равной степени значимые как для его творчества, так и для французского экзистенциализма в целом. Что может объединять эссе, написанное на стыке литературоведения и философии, и пьесу, являющуюся современной трагедией рока? Одна из главных идей Камю, положенная им в основу его писательской и философской экзистенциалистской концепции, — идея бунта. Бунта, пусть трижды обреченного на неудачу, но побуждающего человека,...