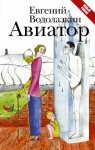Цитаты из книг
Ведь это только на первый взгляд кажется, что Ватерлоо и умиротворенная беседа несравнимы, потому что Ватерлоо – это мировая история, а беседа вроде как нет. Но беседа – это событие личной истории, для которой мировая – всего лишь небольшая часть, прелюдия, что ли. Понятно, что при таких обстоятельствах Ватерлоо забудется, в то время как хорошая беседа – никогда.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
В очередной раз задаю себе вопрос: что вообще следует считать событием? Для одних событие – Ватерлоо, а для других – вечерняя беседа на кухне. В конце, предположим, апреля тихая такая беседа – под абажуром с тусклой мигающей лампочкой. Шум автомоторов за окном. Сама беседа – за исключением отдельных слов – может, и не остается в памяти. Но остаются интонации – умиротворяющие, как будто весь покой мира вошел в них этим вечером.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Главное – не переоценивать событий как таковых. Я думаю, они не являются чем-то внутренне присущим человеку. Это ведь не душа, которая определяет личность и при жизни неотделима от тела. В событиях нет неотделимости. Они не составляют часть человека – наоборот, человек становится их частью. Он в них попадает, как попадают под поезд, а там уж смотри, что от тебя останется.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
пока очевидное не признано, оно – не очевидно.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
– Ну, не может же человек быть таким дерьмом!
– Да что вы! – смеется мой собеседник. – Запросто.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
– Смерть не нужно рассматривать как прощание навсегда. Она – временное расставание. – Помолчал. – У ушедшего вообще нет времени.
У ушедшего. Звучит, как сквозняк в тоннеле.
– А у оставшегося? У него ведь есть время.
Улыбнулся.
– Ну, пусть займется чем-нибудь в ожидании.
Столько времени врозь. Страшно.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Смерть не тронула меня на острове. Тогда она была мне почти безразлична. Она вернулась со своим выстрелом сейчас, когда в моей жизни появилась радость. Долго же она ждала. Надо ли понимать так, что ее выстрел – ответный?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
У меня есть всё – семья, деньги и эта моя странная известность, – но радоваться всему я смогу, судя по всему, недолго. Перед лицом смерти деньги и известность ничего не значат – это так очевидно.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Мой теперешний ад в том, что смерть здесь гораздо страшнее, чем на острове. Конечно, я цеплялся там за жизнь, как мог, но ведь и смерти не боялся. Когда жизненное пространство начинало стремиться к нулю, смерть мне казалась чуть ли не выходом. Я чувствовал, как жаждет ее мое измученное тело, но дух с этим желанием боролся. Дух – бодрствовал.
Теперь же я страшусь смерти как никогда прежде.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
готовность к потерям и в самом деле свойственна экспериментаторам, даже взрослым. Они, делаю вывод я, большие дети, и оторванная голова куклы, как это подтвердила история нашей несчастной Родины, для них не отличается от человеческой.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
прежде чем решаться на рискованный опыт, следует взвесить возможный урон.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
это не первый мой уход из жизни. Но. Смерть в лагере казалась выходом, а сейчас она кажется уходом. Уходом от тех, кого люблю. От того, что люблю. От моих воспоминаний, которые вот уже столько месяцев записываю.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
За забором лает собака, слышно, как о будку бьется ее цепь. Сидя на цепи, можно вроде бы уже расслабиться и особенно не лаять – нет, не получается. Взволнована. Участвует в общественной жизни.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Он сказал: покаяний не жди. В который раз спрашиваю себя: почему? Для чего-то же он был оставлен живым до ста лет – не для покаяния ли? Он великий преступник, и Всевышний, возможно, всё оттягивал его уход, давая ему возможность одуматься. Воронин сказал, что устал. Все решили, что это было сигналом к окончанию встречи. А я думаю, что он говорил о своем состоянии, когда нет уже ни злости, ни раскаяния. Душа погружается в сон.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Всегда удивлялся тому, что одно имя способно обозначать столь разные сущности. Получается, что Воронин может быть и таким, и таким. Как же он становится тем, кто он есть? Хороший вопрос.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
вижу фотографию человека с точно такой же фамилией – Воронин. С лицом не скажешь что свирепым, это подтверждала и Настя, когда я ей его показывал. Хотелось
бы, чтобы он был со скошенным лбом, чтобы изо рта – клыки. Отражал чтобы внутреннее свое содержание. Так нет же: лоб высок, черты правильные, аккуратно причесан, гладко выбрит. Оказался к тому же живуч – как все вампиры. Со своей внешностью мог бы работать завучем или, скажем, директором клуба, и никто не узнал бы о склонности его к кровососанию.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Обилие открытий затуманило головы еще моим бывшим современникам, сделавшим атеизм модой. Уже тогда они напоминали божью коровку на шоссе. Она проползла десяток метров и очарована своим движением. Ей кажется, что она всё изучила и поняла. Но она никогда не узнает, где начинается шоссе и куда ведет.
Я поделился сравнением с Гейгером. Он прищурился:
– А коровка-то, несмотря на ее самонадеянность, – Божья. Так что Богом разные взгляды допускаются.
Хитрый тевтонец, голыми руками не возьмешь.
– Коровка, конечно же, Божья, почему ей и даны крылья. Чтобы увидеть всю дорогу, насекомому нужно лишь взлететь на небо, понимаете?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Разговаривали с Гейгером о Боге. Он Бога не отрицает как возможность, но прежде всего верит в факты, предоставляемые наукой. А в факты не надо верить, их достаточно знать. Этих фактов много, тьма тьмущая, только все они касаются неосновного. Мне даже иногда кажется, что эти факты от основного отвлекают. Из миллионов мелких объяснений не складывается одного всеобъемлющего. И не сложится – потому что то и другое находятся в разных измерениях. Так что напрасно Гейгер ждет здесь перехода количества в качество. А объясняет Б, Б объясняет В, и так до бесконечности, но где то, что объясняет всю эту бесконечность в целом?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
– Вы – атеист? – спросил меня Иннокентий.
– Нет, так я себя не определяю. Скорее, я человек, который доверяет научному знанию. Если наука докажет мне, что Бог есть, что ж…
– Не обольщайтесь. На самые важные вопросы наука ответить не смогла. И не сможет – ни на один.
– Например?
– Как всё возникло из ничего? Как появляется и куда уходит душа? Вопросов море – и все лежат за пределами науки.
– Возможно. И всё же мне трудно переступить через эти пределы.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Мы можем получить Его помощь только силой веры в Него, а значит – и силой нашей просьбы. Здесь должны соединяться две вещи: желание выздороветь и вера. И то, и другое должен проявлять не только больной, но и его близкие. Близкие, я думаю, даже в большей степени, потому что у них больше сил (они ведь здоровы), а больной подвержен депрессиям.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
с точки зрения высшей справедливости, незаслуженного наказания не бывает.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
прошлое отрезано от настоящего и не имеет отношения к реальности. Что происходит с жизнью, когда она перестает быть настоящим? Она живет в одной лишь моей голове?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Да, у каждого человека свои особенные воспоминания, но есть ведь вещи, которые переживаются и вспоминаются одинаково. Политика, история, литература – они воспринимаются, да, по-разному. Но шум дождя, ночной шелест листьев – и миллион других вещей – всё это нас объединяет. Мы ведь не будем спорить об этом до хрипоты и разбивать, чего доброго, друг другу головы. Это всему основа.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Вот бежишь ты по жизни со слабой надеждой взлететь, и все смотрят на тебя с жалостью, в лучшем случае – с непониманием. Но ты – взлетаешь, и все они с высоты кажутся точками. Не потому что в мгновение так уменьшились, а потому что план сверху (лекции по основам рисунка) делает их точками – сотней обращенных к тебе точек-лиц. С открытыми, как представляется, ртами. А ты летишь в избранном тобой направлении и чертишь в эфире дорогие тебе фигуры. Стоящие внизу ими восхищаются (немножко, может быть, завидуют), но не в силах что-либо изменить, поскольку в этих сферах всё зависит лишь от умения летящего. От прекрасного в своем одиночестве авиатора.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Мне кажется, что у людей состоявшихся есть особенность: они мало зависят от окружающих. Независимость, конечно, не цель, но она – то, что помогает достигать цели.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...