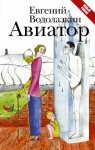Цитаты из книг
чувствую, что всем здесь чужой. У них своя жизнь, своя манера говорить, двигаться, думать. Они ценят другие вещи. И не то чтобы их вещи были хуже или лучше моих, просто они – другие. К тем, кто живет сейчас, я пришел, как человек с другого континента, может быть, даже – с другой планеты. Они интересуются мной, рассматривают, как музейный экспонат, но своим не считают.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
– Какое главное открытие вы сделали в лагере?
Вопрос, в сущности, банальный, как всё, что содержит слова “главный”, “самый” и т. п. Странно, что нужно было так долго блеять, чтобы это спросить. Но чем банальнее вопрос, тем ведь сложнее на него ответить.
– Я открыл, что человек превращается в скотину невероятно быстро.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Рай – это отсутствие времени. Если время остановится, событий больше не будет. Останутся несобытия. Сосны вот останутся, снизу – коричневые, корявые, сверху – гладкие и янтарные. Крыжовник у изгороди тоже не пропадет. Скрип калитки, приглушенный плач ребенка на соседней даче, первый стук дождя по крыше веранды – всё то, чего не отменяют смены правительств и падения империй. То, что осуществляется поверх истории – вневременно, освобожденно.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Меня раз за разом спрашивают, как я выживал в лагере. Имеют в виду не только физическую сторону жизни, но и ту, что делает человека человеком. Вопрос законный, потому что лагерь – ад не столько из-за телесных мучений, сколько из-за расчеловечивания многих, туда попавших. Чтобы не позволить истребить в себе остатки человеческого, нужно этот ад хоть на время покидать – хотя бы мысленно. Думать о Рае.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Сева – мне:
– Вступай в партию большевиков!
На дворе июнь. Солнце. В Петровском парке оно пробивается сквозь листву дубов. Мы идем по тропинке, наступая на прошлогодние желуди.
– Зачем вступать?
– Готовить революцию. Революции, по Марксу, – это локомотивы истории.
Сева теперь, оказывается, марксист.
– А если, – спрашиваю, – локомотив куда-нибудь не туда пойдет? Не ты ведь им управляешь.
Сева такой возможности не допускает. Он смотрит на меня сердито – с некоторых пор появился у него такой взгляд.
– Партия, – говорит, – это сила. Нас знаешь сколько! Все не могут ошибаться.
Во-первых, могут.
Во-вторых, достаточно ошибиться машинисту.
В-третьих, речь может идти о намеренном действии. Злонамеренном.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Когда я однажды рассказывал Гейгеру о том, как мы работали в сорокаградусный мороз – без теплой одежды, без обуви, без еды, – он сказал мне, что не понимает, как в таких условиях можно было остаться в живых.
Так ведь и не оставались.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Человек – не кошка, он не может приземлиться на четыре лапы всюду, куда бы его ни бросили. Для чего-то же он поставлен в определенное историческое время. Что происходит, когда он его теряет?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Всё думаю о природе воспоминаний. Неужели то, что хранит моя память, – это всего лишь комбинация нейронов в голове?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Самое острое чувство – неудовлетворенное, и я испытал его в полной мере. Никогда еще мое “вы” не было так чувственно. До сих пор ощущаю его жар на губах. Самый настоящий жар. Трудно поверить, что это достигается комбинацией нейронов.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Что меня в телевидении удивляет: они там всё время во что-то играют. Угадывают слова, мелодии, а еще, я читал, собираются отправить кого-то выживать на необитаемый остров. Все веселые, находчивые и довольно, я бы сказал, убогие. Получается, что у них в жизни не было острова, на котором нужно выжить. Им этого, что ли, не хватает?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Всё очень просто. В каждом человеке есть дерьмо. Когда твое дерьмо входит в резонанс с дерьмом других, начинаются революции, войны, фашизм, коммунизм… И этот резонанс не связан с уровнем жизни или формой правления. То есть связан, может быть, но как-то не напрямую. Что примечательно: добро в других душах отзывается совсем не с такой скоростью.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Исторический взгляд делает всех заложниками великих общественных событий. Я же вижу дело иначе: ровно наоборот. Великие события растут в каждой отдельной личности. В особенности – великие потрясения.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
– Ты веришь в Бога?
– Да.
– В эпоху аэропланов стыдно быть верующим. Вот я – дочь священника, а не верю. – Она затянулась дымом. – Чего молчишь?
– Разве аэропланы отменили смерть?
Лера засмеялась:
– Конечно!
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
– Почему, как вы думаете, произошел октябрьский переворот? – спросил меня Гейгер. – Вы ведь всё это видели.
Неожиданно. Выяснится потом, чего доброго, что Гейгер пишет исторические романы.
– В людях накопилось много зла… – подбираю слова для ответа. – Должен же был найтись этому выход.
– Любопытно как. Любопытно… Вы не связываете, значит, переворот с общественной ситуацией, с историческими предпосылками и прочими делами?
– А разве всеобщее помутнение – не историческая предпосылка?
Гейгер поставил перед моей кроватью стул и сел на него верхом.
– Но считается, что у помутнения семнадцатого года имелись свои причины – война там, обнищание народа, не знаю, что еще…
– Бывали времена гораздо хуже – и ничего, никаких помутнений.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
– Что вы чувствуете, – спрашивает, – оказавшись в новой, по сути, стране?
– Чувствую, что у нее новые сложности.
Улыбаюсь. Гейгер тоже улыбается – с долей удивления: ожидал чего-то другого.
– У всякого времени свои сложности. Их надо преодолевать.
– Или избегать.
Смотрит на меня внимательно. Произносит вполголоса:
– Вам-то не удалось…
Не удалось. Гейгер, по-моему, общественный человек. А я нет. Страна – не моя мера, и даже народ – не моя. Хотел сказать: человек – вот мера, но это звучит как фраза. Хотя… Разве фразы не бывают истинными – особенно если они результат жизненного опыта? Бывают, конечно.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Уже второй раз слышу от него про воровство. Но ведь всегда воровали – в тысяча девятьсот девяносто девятом, в тысяча восемьсот девяносто девятом, и во все прочие годы тоже. Почему же это его так задевает – потому что немец? Немцы, я думаю, в таких размерах этим не занимаются, им удивительно, что можно так беззаветно воровать. Нам тоже удивительно, но – воруем.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Гейгер сообщил мне, что сейчас “Оредежь” мужского рода. И без мягкого знака.
– Что, – спрашиваю, – река пол сменила?
– Сейчас не то что реки – люди пол меняют.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
И вот она уже рядом, ее ладонь в моей ладони. Прядь ее волос щекочет мое ухо. Мне было бы тяжело от мысли, что нас могут застать за этим. За чем-то другим, предосудительным, быть может, даже неприличным, – не страшно, поскольку неприличное – первое, чего можно было бы ожидать, а вот за этим… Тут ведь так тонко всё, так трепетно и необъяснимо, и не покидает чувство, что это уже когда-то было.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Нет уже ни людей, ни событий, а слова остались – вот они. Наверное, слова исчезают последними, особенно – записанные.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
Спрашиваю у Гейгера:
– Так что же со мной все-таки случилось?
– Это, – отвечает, – вы сами должны вспомнить, иначе ваше сознание заменится моим. Разве вы этого хотите?
А я и сам не знаю, хочу ли я этого. Может, у меня окажется такое сознание, что лучше бы его заменить.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
А может, это и вправду несущественно? Может, имеет значение только то, что слова были произнесены и сохранились, а уж кем и где – дело десятое?
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
часто так бывает на поминках: часа полтора говорят о том, каким покойник был хорошим человеком. А потом кто-то из пришедших вспоминает, что был покойник, оказывается, не только хорошим. И тут, как по команде, многие начинают высказываться, дополнять – и мало-помалу приходят к выводу, что был он, вообще-то, первостатейным мерзавцем.
Евгений Водолазкин – прозаик, филолог. Автор бестселлера “Лавр” и изящного historical fiction “Соловьев и Ларионов”. В России его называют “русским Умберто Эко”, в Америке – после выхода “Лавра” на английском – “русским Маркесом”. Ему же достаточно быть самим собой. Произведения Водолазкина переведены на многие иностранные языки. Герой нового романа “Авиатор” – человек в состоянии tabula rasa: очнувшись однажды на больничной койке, он понимает, что не знает про себя ровным счетом ничего – ни...
«Реальность - это не то, что было, а то, что, с точки зрения вероятности, могло бы быть»
Евгений Водолазкин – автор романов «Лавр», «Авиатор», «Соловьёв и Ларионов», «Брисбен», сборников короткой прозы «Идти бестрепетно» и «Инструмент языка», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». Его книги переведены на многие языки. Действие нового романа разворачивается на Острове, которого нет на карте, но существование его не вызывает сомнений. Его не найти в учебниках по истории, а события – узнаваемы до боли. Средневековье переплетается с современностью, всеобщее – с...
зачем знать время там, где сплошная вечность?
«Пародист» – вторая пьеса в сборнике Евгения Водолазкина «Сестра четырех». По пути из загородного дома в город погибает известный петербургский пародист. Спустя три года начинается странное выяснение обстоятельств его смерти. В ходе следствия обнаруживается, что любовь порой живет меньше трех лет, что пародист – профессия опасная, так как удваивает сущности, а перемещения в пространстве – это в конечном счете движение по кругу…
ДЕПУТАТ. Врач – это благородно. Вы не пытались полюбить эту профессию? ДОКТОР. Пытался. Однажды даже пошел на жертву. Незадолго перед выпуском у нас в институте была лекция знаменитого патологоанатома. Он сказал тогда, что главное, с чем должен бороться врач, – это брезгливость. Перед ним на кафедре стояла моча в…
«В связи с нынешней пандемией на каждой стране, каждом городе и каждом деревенском клубе висит амбарный замок. Возникает дерзкая догадка: а, может, дело не в вирусе? Может, дело как раз-таки в замках? Время снимать замки – и время их развешивать. Может быть, глобализация достигла той степени, когда все ждут повода, чтобы закрыть дверь? Эти и другие вопросы решают четыре пациента инфекционной больницы имени Альбера Камю. Они еще не знают, что на этом пути их ждут большие открытия». Евгений...