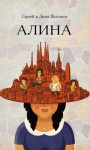Цитаты
277069Что может быть лучше, - не считая, скажем, сладкого сна на согретом солнцем подоконнике подвального окошка, - чем добродушная перепалка с папашей.
В роскошном особняке мистера Вандербильта всегда множество гостей – богатых, знатных, знаменитых. Но никто не догадывается, что в подвале огромного дома живет очень необычная маленькая девочка Серафина, которая умеет отлично ловить мышей и крыс. Когда в дом приходит беда и начинают пропадать дети, именно Серафина решает найти похитителя и сразиться с ним. Ее лучшими друзьями и помощниками становятся племянник хозяина дома Брэден и его черный доберман Гидеан. Борясь за жизнь и счастье окружающих,...
... рано или поздно неизбежно приходит книга, по которой заметно: автор теряет хватку и уже не так хорошо ориентируется в современных реалиях, как раньше.
Корнуолл, 1933 год. Элис Эдевейн живет в красивом поместье вместе с семьей. Дни текут привычной чередой, а идеальному миру, лишенному забот, ничто не угрожает. Но однажды случается непоправимое – таинственно исчезает Тео, младший брат Элис. А вскоре после этого находят бездыханное тело друга семьи. Что это – самоубийство или преступление? И если самоубийство, то могла ли причиной стать пропажа Тео? В 2003 году детектив Сэди Спэрроу оказывается в Корнуолле. Гуляя по лесу, она случайно...
Слова всего лишь ветер. Они не могут тебя ранить. Позволь им пролететь мимо.
Перед вами — четвертая летопись цикла «Песнь льда и огня». Эпическая, чеканная сага о мире Семи Королевств. О мире суровых земель вечного холода и радостных земель вечного лета. Мире лордов и героев, воинов и магов, чернокнижников и убийц — всех, кого свела воедино Судьба во исполнение древнего пророчества. О мире опасных приключений, великих деяний и тончайших политических интриг. Война Пяти Королей наконец завершена, и дом Ланнистер с союзниками празднует победу. Однако до мира и спокойствия...
admin
добавил цитату
из книги
«Тайна двух океанов»
6 лет назад
– Не понимаю. Абсолютно не понимаю, чему вас только учили в этих ваших прославленных гимназиях, или… как их там… колледжах, что ли!
– Колледж святого Патрика, Иван Степанович, в Квебеке.
– Не святого Патрика, – разразился океанограф, – а святого невежества!.. Вот-с! Святого невежества! Не знать ничего и даже не слышать об острове Рапа-Нуи, или Вайгу, или Пасхи! Это чудовищно!
Воздух снаружи был таким холодным, что вдох обжег ее легкие, точно кислота.
Это был обычный поздний вечер. Адвокат Уилл Иннис готовился к заседанию суда и ждал, когда его жена Рейчел вернется с работы. Их дочь Девлин легла спать, не дождавшись матери, но уверенная, что увидит ее на следующий день. Однако Рейчел не вернулась. Она бесследно исчезла… И Уилл, и Девлин считали, что их жена и мать погибла и что прежняя счастливая жизнь закончилась навсегда. Но спустя пять лет в их доме появилась женщина, бывший агент ФБР, давшая им надежду найти Рейчел – или хотя бы узнать,...
admin
добавил цитату
из книги
«Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем»
6 лет назад
"Люди ошибаются, считая спортсменами великих олимпийцев. Спортсменом является каждый. Если у вас есть тело, то вы - спортсмен."
Nike – один из самых узнаваемых мировых брендов. Создатель компании – Фил Найт – один из богатейших людей, хотя еще в юности он не мог себе позволить купить кроссовки Adidas. 50 лет назад студент Орегонского университета и бегун на средние дистанции Фил Найт занял у отца 50 баксов и начал перепродавать кроссовки из Японии. Сегодня годовой оборот компании Nike составляет 30 миллиардов долларов. А пара «найков» найдется в шкафу у каждого – от президента до подростка. Фил Найт – человек-загадка,...
– Поистине справедливость была у нас чем-то и таком роде, но не в смысле внешних человеческих проявлений, а в смысле подлинно внутреннего воздействия на самого себя и на свои способности. Такой человек не позволит ни одному из имеющихся в его душе начал выполнять чужие задачи или досаждать друг другу взаимным вмешательством: он правильно отводит [каждому из этих начал] действительно то, что им свойственно; он владеет собой, приводит себя в порядок и становится сам себе другом; он прилаживает друг к другу три начала своей души, совсем как три основных тона созвучия – высокий, низкий и средний, е да и промежуточные тоны, если они там случатся; все это он связует вместе и так из множественности достигает собственного единства, рассудительности и слаженности. Таков он и в своих действиях, касаются ли они приобретения имущества, ухода за своим телом, государственных дел или же частных соглашений. Во всем этом он считает и называет справедливой и прекрасной ту деятельность, которая способствует сохранению указанного состояния, а мудростью – умение руководить такой деятельностью. Несправедливой деятельностью он считает ту, что нарушает все это, а невежеством – мнения, ею руководящие.
– Ты совершенно прав, Сократ.
Диалог «Государство» занимает особое место в творчестве и мировоззрении Платона. В нем он рисует картину идеального, по его мнению, устройства жизни людей, основанного на высшей справедливости, и дает подробную характеристику основным существующим формам правления, таким, как аристократия, олигархия, тирания, демократия, и другим.
Люди, как правило, не любят тех, кто умеет читать в их душе, угадывать их мысли
Роман «Шерли» английской писательницы Ш. Бронте (1816–1855) получил на родине широкую известность — он много раз переиздавался, его экранизировали в кино и на телевидении, по нему готовили радиопередачи.
Вот уже полтора столетия читателей волнует история любви двух героинь романа к одному мужчине, их трагическая судьба.
Envy the fire, for it is either going or not. Fires do not feel happy, sad, angry. They burn, or they do not burn.
Когда-то Божества правили Континентом, а значит, и всем миром, Сайпур же был всего лишь угнетенной колонией, лишённой божественной благодати. Но в отсутствие чудес сайпурцы пошли по технологическому пути развития и в результате не только свергли континентальную власть, но и убили почти всех Божеств, погрузив материк в хаос. Все, сотворенное Божествами, исчезло, города лежат в руинах, местным жителям запрещают изучать собственную историю и отправлять религиозные ритуалы. Когда в Мирграде, столице...
Передо мной — новый квартал, свежий и стерильный, будто выстроенный заново на месте прежнего разносчика заразы. И хоть большая часть домов сохранилась, на них глядишь, как на чучело собственного пса, которого любил, когда он был еще жив.
Опубликовано в журнале: Иностранная литература 2015, № 9. Номер открывается романом «Ночная трава» французского писателя, Нобелевского лауреата (2014) Патрика Модиано (1945). В декорациях парижской топографии 60-х годов ХХ века, в атмосфере полусна-полуяви, в окружении темных личностей, выходцев из Марокко, протекает любовь молодого героя и загадочной девушки, живущей под чужим именем и по подложным документам, потому что ее прошлое обременено случайным преступлением… Перевод с французского...
Не пугайся,когда перед тобой открывается безграничное. Как пустыня безгранична для взора,так и любовь безгранична для сердца.
Индусское Майя или сикхское Джива – у главной героини два имени, два пути. Живя в Канаде, выбора можно не делать, но в пятнадцать лет Майя-Джива оказывается с отцом в Индии. В тот самый момент, когда сикхи убивают Индиру Ганди и в стране начинается чудовищная резня. Исчезновение отца, бегство из Дели, чужие люди, которые могут и помочь, и ранить, – жизнь превращается в череду испытаний, пройти которые можно, только открыв сердце любви и состраданию.
«Классная вещь – книги. Это же как фильмы, которые воспроизводятся в твоей голове».
Кто знает, какие удивительные истории хранят забытые в вагоне поезда, оставленные на скамье в парке или оброненные в водосточную канаву вещи? Для писателя Энтони Пэдью они стали источником творческого вдохновения на всю жизнь. А еще – вечным напоминанием о собственной вине, ведь однажды он потерял бесценный подарок любимой, с которым поклялся не расставаться… Энтони верит, что сможет исполнить обещание, став Хранителем забытых вещей. Однажды он находит случайно оставленную коробку из-под печенья...
admin
добавил цитату
из книги
«Сотня»
6 лет назад
Его отцу легче было поверить, что Уэллс бросал вызов. Или возможно, он мог попытаться сделать вид, что Уэллс употреблял наркотики. Любой из этих сценариев для канцлера был приемлемее, чем правда, что он рискнул всем ради девушки.
admin
добавил цитату
из книги
«Лекарь. Ученик Авиценны»
6 лет назад
... если кто не способен прочесть предписанных молитв, тот пусть хотя бы думает о Всевышнем. Это тоже считается молитвой.
Можно сорок лет учить людей оставаться восприимчивыми к пониманию тайны, а потом какой-нибудь парень, который разбирается в теологии не лучше обезьяны, добирается до радио, и вся твоя работа летит в тартарары.
На склоне лет священник Джон Эймс рассказывает историю рода, охватившую весь девятнадцатый и половину двадцатого века, своему семилетнему сыну – ребенку, который стоит у дверей в новый мир. Эймс понимает, что не увидит его взросления и не сможет поддержать, когда судьба начнет посылать ему испытания, но вера в то, что главное в этой жизни всегда неизменно, служит поддержкой ему самому. И с этой верой он пишет к сыну и рассказывает ему историю стойкости, любви и надежды, призванную дать мудрый...
Если нет взаимных чувств, то ты можешь быть хоть Кинг‑Конгом в золотых доспехах, она не будет с тобой.
Владлена Третьякова очень любит деньги. Она готова пойти на всё ради красивой жизни, следуя единственному правилу: цель оправдывает средства. Кирилл Лучков жаждет известности. Он упорно прокладывает дорогу к звездам при помощи блога, живет в объективе камеры и очаровывает подписчиков зажигательными танцами. Встреча двух бесстыдных мечтателей должна была закончиться скорым прощанием, но у судьбы свои планы. Что победит: корысть или искренность? Партнерские отношения или необузданные чувства? ...
- Я уже не свой. Все уже знают, что я мент.
- Что, по Первому каналу сообщили? - с иронией спросил Пряников.
- Москва большая. Может, и не все знают.
Игорь Соколовский молод и богат. Перед ним открываются двери любого заведения, купюра из бумажника решает все проблемы, и жизнь кажется легкой и простой. Это все благодаря отцу – одному из хозяев города. Одного его звонка достаточно, чтобы изменить судьбу любого смертного. Игорь не подозревал, что может наступить такое время, когда один звонок его отца изменит его собственную жизнь. И поставит его лицом к лицу со смертью. Очень долго Игорь не будет понимать: он идет по следу смерти или смерть...
Я с нетерпением стал ждать вечера. Примирение с Алиной казалось мне делом почти решенным, и я с упоением предвкушал, как наша жизнь с ней, прерванная этой досадной поездкой в горы, возобновится. Мне вспоминалась наша жизнь в Москве, такая ладная и счастливая, и Алина, моя милая Алина, которая просыпалась по утрам с припухшим со сна личиком и растрепанными косами, и щебетала как птичка, бегая по дому, и ждала меня у окна, и бросалась на шею с радостным визгом. Много еще воспоминаний пронеслось в моей голове, от которых сердце у меня приятно забилось. Я уже представлял, как поведу ее завтра на пляж, а потом повезу в город, гулять, сидеть в ресторанчиках и греться на солнце – разве не так мы собирались провести с ней отпуск? – а после я увезу ее в прекрасную Марбелью, и там мы бы окончательно забудем обо всех недоразумениях.
Две пары отправляются на отдых в горы Каталонии: благополучная семья со стажем и влюбленные, которые вот-вот собираются объявить о свадьбе. Пять дней, проведенные в уединенном месте, меняют все. Примерная жена и мать двоих сыновей вдруг увлекается женихом своей младшей сестры, но за ней зорко следит муж, и без того подозревающий жену в неверности. Отношения между героями накаляются, обстоятельства ставят их на грань жизни и смерти. Роман основан на реальной истории. Интервью с главным героем...
Любые отношения начинаются
и заканчиваются, такова жизнь. Однажды
утром один остается, а другой уходит
и никто не знает почему. Мы все
балансируем на краю пропасти. Я не доверяю
чувствам. Они слишком изменчивые, слишком
хрупкие, слишком непостоянные. Ты считаешь
их прочным, а ведь достаточно одного
взгляда, одной обольстительной улыбки, и от
них не остается и следа.
Талантливый, успешный писатель Том Бойд переживает не лучшие времена – его бросила любимая девушка, он почти разорен, но главное – слова больше не хотят складываться в предложения, и ему кажется, что никогда в жизни он не напишет ни строчки. Появление в его доме Билли, героини его романа, перешагнувшей границу, отделяющую вымышленный мир от реального, возвращает ему вдохновение. Ее жизнь под угрозой, и спасти ее может только он, тот, кто ее выдумал. И вот очередной роман готов, Билли исчезает...
admin
добавил цитату
из книги
«Зов Ктулху»
6 лет назад
Вечно лежать без движения может не только мертвый, А в странные эпохи даже смерть может умереть.
Ведь жизнь была бы куда менее замороченной, чем та, в которую в конечном итоге эволюционировала природа: огромное количество сложных организмов, и каждому вместо клочка влажной земли и своевременных порывов ветра подавай дизайнерские наряды, дезодоранты, да чтобы метро работало до глубокой ночи.
Новый роман Скарлетт Томас – английской писательницы, снискавшей славу одного из лучших и самых оригинальных романистов современности, – это парадоксальная семейная сага, остроумная, увлекательная, с множеством граней смысла. Это роман о секретах ботаники и о загадочной связи между растениями и людьми, о сексе, о лабиринтах человеческого сознания, о волшебных книгах, об обретении вечной свободы ценой смерти. Роковые стручки с семенами, доставшиеся героям в наследство, обещают просветление. Но...
- Способность прощать - удел сильного.
Шесть ответственных взрослых. Три милых ребенка. Одна маленькая собака. Обычный уик-энд. Что же могло пойти не так? Вид и Тиффани приглашают соседей и их друзей на барбекю. И все с радостью соглашаются в надежде провести приятный вечер в красивом доме. Вкусная еда, приготовленная хозяином, остроумные шутки, непринужденная беседа, легкий флирт. Неожиданно раздается жуткий крик: двухлетняя девочка упала в бассейн фонтана и едва не утонула. И это событие резко меняет жизнь, казалось бы, счастливых...
Человек — сильное существо. Он может придумать себе все, что угодно. Может придумать себе прошлое, настоящее и будущее.
В романе «Здесь живу только я» переплетаются две одновременно существующие реальности. Одна соткана из советских сказок 20-х и 30-х годов. Здесь в волшебном городе Ленинграде живет красноармеец Петр, здесь мудрый Ленин, котики и ильич-трава. Здесь Гражданская война превращается в мифическое полотно из фантасмагорий, гротеска и визионерства — но без малейшей доли модного нынче постмодернизма. Здесь нет места для любимой нынче иронии — все настолько серьезно, как только может быть серьезно в...
— Ну как же, — нерешительно сказал Карик, — человек всё-таки царь природы и… вдруг…
— И вдруг?..
— И вдруг… Он будет меньше мухи… Это же…
— Что?
— Это же неприлично!
— Почему?
— Не знаю! Бабушка говорит, — неприлично. Мы с Валей читали недавно книжку про Гулливера и лилипутов, а бабушка взяла да и порвала её. Она говорит, неприлично изображать людей крошечными. Бабушка рассердилась даже. Она сказала: человек больше всех животных, а потому все и подчиняются ему.
— А почему же прилично человеку быть меньше слона?
— Так то же слон!
— Глупости, мой мальчик, человек велик не ростом, а своим умом. И умный человек никогда не подумает даже, прилично или неприлично выпить уменьшительную жидкость и отправиться в странный мир насекомых, чтобы открыть многое такое, что очень нужно и полезно человеку.
Повесть о фантастическом путешествии в реальный мир природы, увиденный словно через огромное увеличительное стекло.
Многим детям, прочитавшим эту книгу захочется узнать больше о жизни растений и насекомых, посидеть в лесу или на озере с увеличительным стеклом в руках.
И мы осуществили это, мы прошли по заросшим захолустным дорогам, ведя под уздцы коня по кличке Чародей. Были дождливые дни, солнечные дни, звездные ночи, грозовые ночи. Нам встречались узловатые старики и старухи на дальних фермах – мужья с морщинистыми обветренными лицами и жесткими жилистыми руками, словоохотливые жены с выцветшими голубыми глазами. Нам попадались канадцы, недавно перебравшиеся сюда из Квебека; останавливая свои плуги (один из них пахал на быках), они обрушивали на нас потоки жуаля – франко-канадского просторечия, которого никто из нас не понимал, даже Чарити, три года проучившаяся во французских и швейцарских пансионах.
Мы обедали в заброшенных школьных дворах, на заброшенных кладбищах в зарослях шиповника, гелиотропа и рудбекии, под кленами у покинутых фермерских домов с зияющими окнами. Когда ночевали на лугах, нас будило дыхание пасущихся коров. Когда забирались на сеновалы, на нас пикировали ласточки, встревоженные нашими фонариками.
Все было зеленое, даже салатовое, но с приметами осени: клены кое-где начинали желтеть, папоротники чернеть от заморозков. Наши лица покраснели от солнца, нас жалили осы, мы ели суп из концентрата, хлеб, намазанный арахисовой пастой, изюм и шоколад, один раз, когда проходили через деревню, жесткие бифштексы, другой раз, когда на пути была ферма, жестких и памятных кур.
Поход, как и замышлял Сид, стал венцом лета, его высшей точкой. На шестой день, омоложенные, мы рассуждали о том, что в следующем году непременно пройдем вдоль канадской границы от Бичер-Фолс до озера Мемфремейгог – или с рюкзаками, без Чародея, двинемся по Длинной Тропе от прохода Мидлбери-Гэп до горы Джей-Пик.
Американский писатель Уоллес Стегнер (1909–1993) – автор множества книг, среди которых 13 романов и несколько сборников рассказов, лауреат различных премий, в том числе Пулитцеровской. “Останется при мне” (1987) – его последний роман. Это история долгой и непростой дружбы двух супружеских пар, Лангов и Морганов. Мечты юности, трудности первых лет семейной жизни, выбор между академической карьерой и творчеством, испытания, выпавшие на долю каждого из героев на протяжении жизни – обо всем этом...